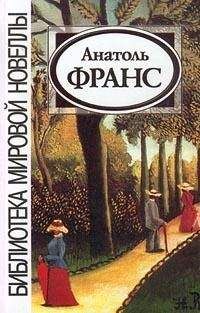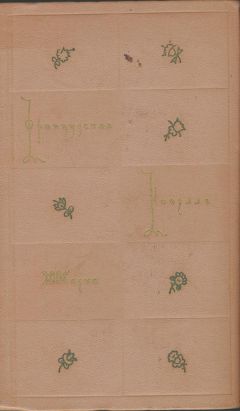Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
Он важно отвечал: «Весь Сент-Омер верит в существование Пютуа. Плохим бы я был гражданином, если бы пошел против этого. Надо трижды подумать, прежде чем посягнуть на малейшую частицу общих верований».
Подобную щепетильность мог проявлять только исключительно порядочный человек. По сути, отец был последователем Гассенди. Свое личное мнение он согласовывал с мнением общественным, веря, как и все сент-омерцы, в существование Пютуа, и только не соглашался признать его прямое участие в краже дынь и обольщении кухарок. Иначе говоря, он соглашался с тем, что есть какой-то Пютуа, дабы быть хорошим сент-омерцем, и обходился без Пютуа при объяснении городских происшествий. В данном случае, как и всегда, он поступал и умно и корректно.
Что касается мамы, то она немного корила себя за выдумку о Пютуа, и не без оснований. Ведь Пютуа порожден был ее ложью, так же как Калибан порожден был ложью поэта. Конечно, эти проступки сравнивать нельзя, и моя мать повинна меньше, чем Шекспир. И все-таки она была испугана и смущена, видя, как ее невинная ложь стала безмерно расти, как ее вздорная выдумка, стяжав такой чудовищный успех, молниеносно распространилась по всему городу и грозила распространиться на целый мир. Как-то раз она даже побледнела, боясь, что ее измышление сейчас воочию предстанет перед ней. В тот день новая служанка, взятая из других мест, вошла в комнату и сказала, что какой-то человек спрашивает барыню. Он говорит, что пришел по делу. «Кто он такой?» — «Человек в блузе, с виду батрак». — «Он назвал себя?» — «Да, барыня». — «Ну! Как же его зовут?» — «Пютуа». — «Он вам сказал, что его зовут…» — «Пютуа, барыня». — «Он здесь?» — «Да, барыня. Ждет на кухне». — «Вы его видели?» — «Да, барыня». — «Что ему надо?» — «Он мне сказал, что скажет только барыне». — «Пойдите спросите еще раз».
Когда служанка вернулась на кухню, Пютуа там уже не было. Эта встреча прибывшей издалека служанки с Пютуа так и осталась загадкой. Но с того дня, думается мне, мама готова была поверить, что, возможно, Пютуа и в самом деле существовал и что она никого не обманула.
РИКЕ
Ж.-А. Куланжону[94]
Окончился срок найма, и г-н Бержере с сестрой и дочерью собрался переезжать из старого обветшавшего дома на Сенской улице во вполне современную квартиру на улице Вожирар. Так решили Зоя и судьба. Пока тянулись долгие часы переезда, Рике грустно бродил по опустошенной квартире. Рушилось все, к чему он был так привязан. Незнакомые люди, плохо одетые, переругивающиеся и злые, смущали его покой и добирались даже до кухни, задевая ногами его тарелку для овсянки и чашку с чистой водой. Стулья забирали, едва только он на них укладывался, а ковры грубо выдергивали из-под его бедного задика, которому в собственном доме некуда уже было деваться.
Отметим, к чести Рике, что сначала он пытался протестовать. Как только стали уносить ушат, Рике яростно залаял на врага. Но никто не явился на его призыв. Он не чувствовал никакой поддержки, и даже, это несомненно, домашние оказались против него. Мадемуазель Зоя сухо сказала «Замолчи, наконец», а мадемуазель Полина добавила: «Рике, ты смешон!»
Он отказался тогда от бесполезных предупреждений и от борьбы в одиночку за общее благо, только молча оплакивал разруху в доме и тщетно, то в одной, то в другой комнате, искал хоть немножко покоя. Когда рабочие проникали туда, где он обретал себе убежище, он прятался от опасности под стол или под комод, еще стоявшие на месте. Но эта предосторожность оказывалась скорее вредной для него, чем полезной, так как мебель вдруг приходила в движение, поднималась над ним, снова сердито опускалась, грозила его раздавить. Он убегал, испуганный, со взъерошенной шерстью, и отыскивал себе другое убежище, такое же ненадежное, как первое.
Но эти неудобства, даже опасности — были ничто по сравнению с тем, как больно было его сердцу. Страдал он, как говорится, не столько физически, сколько морально.
В его представлении все предметы обихода были не просто вещи, а одухотворенные и благожелательные существа, исчезновение которых предвещало жестокие несчастья. Блюда, сахарницы, кастрюли и сковородки — все божества кухни; кресла, ковры, подушки — все фетиши семейного очага, его лары и домашние боги, вдруг ушли. Столь огромное бедствие представлялось ему совершенно непоправимым. И это причиняло ему столько горя, сколько могла вместить его маленькая душа. К счастью, как и человеческую душу, ее легко было отвлечь, и она скоро забывала свои горести.
Во время продолжительных отлучек упаковщиков, то и дело чувствовавших приступы жажды, веник старой Анжелики подымал стародавнюю пыль, скопившуюся в углах, и Рике вдыхал тогда запах мышей, следил за убегавшим пауком, — его легковесная мысль была этим вполне занята. Но вскоре его снова охватывала тоска.
В день отъезда, видя, что все час от часу только ухудшается, он впал в совершенное отчаяние. Особенно зловещим показалось ему то, что стали упрятывать белье в какие-то темные ящики. Полина торопливо и весело складывала в корзину свои платья. Он отвернулся от нее, как будто она делала скверное дело. И, носом к стене, размышлял: «Вот наступило самое худшее! Конец всему!» Полагал ли он, что вещи не существуют, если на них не глядишь, или просто хотел избежать тягостного зрелища, но он старался не смотреть в сторону Полины. Случаю было угодно, чтобы, ходя взад и вперед по комнате, она заметила позу Рике. Поза была печальной. Ей она показалась уморительной, и она засмеялась. И, смеясь, позвала его: «Поди сюда! Рике, сюда!» Но он не шевельнулся в своем углу и не повернул головы. Ему было совсем не до того, чтобы ласкаться к молодой хозяйке, и к тому же, в силу какого-то тайного инстинкта, своего рода предчувствия, он боялся подойти к зияющей корзине. Полина позвала его еще несколько раз. И так как он не отзывался, подошла к нему, взяла его на руки и высоко подняла. «Какие же мы несчастные! — сказала она. — Какие жалкие!» В ее голосе звучала ирония. Рике иронии не понимал. Он висел у нее на руках, неподвижный, угрюмый, и притворялся, что ничего не видит и не слышит. «Рике, посмотри на меня!» Она трижды приказывала ему это — и все напрасно. Тогда, изображая страшный гнев, со словами: «Исчезни, глупое животное!» — она бросила его в корзину и захлопнула крышку. В эту минуту ее позвала тетя, она вышла из комнаты и оставила его в корзине.
Обеспокоен он был ужасно. Ему и в голову не приходило, что это только игра и запрятали его сюда шутки ради. Считая свое положение и без того достаточно трудным, он побоялся осложнить его какой-нибудь неосторожностью. И несколько мгновений лежал неподвижно, затаив дыхание. Затем рассудил, что не бесполезно обследовать темницу. Он ощупал лапами юбки и блузки, на которые его так безжалостно швырнули, и стал разыскивать выход из столь страшного места. Он усердно занимался этим уже две или три минуты, как вдруг г-н Бержере, собираясь идти из дому, позвал его:
— Сюда, Рике, сюда! Пойдем пройдемся по набережной. Вот истинно великолепное место. Там теперь выстроили пристань, не знающую себе равной по безобразию, поразительную по своему уродству. Архитектура нынче — погибшее искусство. Ломают дом на углу улицы Бак, а выглядел он прекрасно. Вместо него, конечно, возведут какое-нибудь гнусное строение. Хоть бы наши архитекторы не касались по крайней мере набережной д'Орсэ и не лезли туда со своим варварским стилем, чудовищный образец которого они показали на углу Елисейских полей и улицы Вашингтона!.. Сюда, Рике!.. Погуляем но набережным. Вот истинно великолепные места. Но архитектура много сдала со времен Габриэля и Луи…[95] Где же пес? Рике!.. Рике!..
Голос г-на Бержере сильно подбодрил Рике. В ответ он неистово заскребся в ивовую плетеную стенку.
— Где пес? — спросил г-н Бержере входившую со стопкой белья Полину.
— Он в корзине, папа.
— Как так в корзине! Почему он там?
— Глуп был, — ответила Полина.
Господин Бержере освободил своего приятеля. Рике, виляя хвостом, шел за ним до передней. Вдруг в его мозгу мелькнула какая-то мысль. Он побежал обратно, бросился к Полине, прижался к ее ногам и, лишь после того как бурно выразил ей свое обожание, понесся догонять хозяина, уже бывшего на лестнице. Не выразить своей любви хозяйке, могущество которой погрузило его в недра корзины, видимо, означало для него погрешить против мудрости и религии.
На улице г-ну Бержере и его псу представилось невеселое зрелище их домашнего скарба, разложенного на тротуаре. Упаковщики засиделись в соседнем кабачке, а тем временем зеркальный шкаф мадемуазель Зои отражал вереницу прохожих — рабочих, учеников художественного училища, девиц, торговцев, подводы, фиакры, фургоны, а также аптечную витрину со стеклянными шарами и змеями Эскулапа. Прислоненный к тумбе, г-н Бержере-отец бледно улыбался в своей рамке тонкой улыбкой, а волосы у него были словно откинуты ветром. Г-н Бержере с почтением и нежностью посмотрел на отца и убрал портрет с тротуара. В более надежное место поставил он и кругленький столик Зои, который будто застыдился, очутившись на улице.