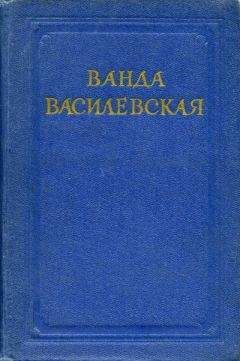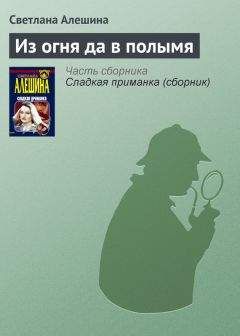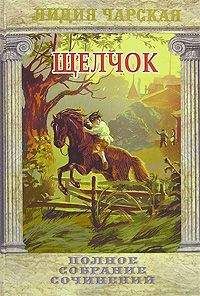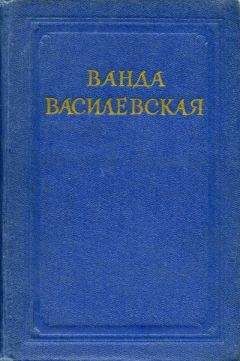Ванда Василевская - Облик дня
Не раздумывая, не понимая, каждая из них подсознательно знает, что опаснее всего первая трещинка, потом уже рушится все здание. И каждая, складывая руки на жирном животе, ощущает свою важность, чувствует себя защитницей всего установленного порядка.
Впрочем, не только здесь. То же и в дорогих квартирах со входом с улицы. Госпожи мастерши с черных лестниц и госпожи профессорши, госпожи советницы, все выравниваются в одну шеренгу — все травят, унижают, клеймят.
И лишь в такие квартиры, как их собственная, Анатоль и Наталка могут входить попросту и обыкновенно. Да и то не во все.
Всюду человек скован одними цепями. Звенья, искусно цепляясь одно за другое, неотвратимо связывают его по рукам и ногам. Пригибают к земле, чтобы и глаза его не глянули в широкий простор. Все обдумано до мельчайших подробностей, размерен всякий шаг человека-раба.
Над темным городом протягивают друг другу руки высокие фабричные трубы и высокие костельные башни. На помощь им спешат закон, предписание, параграф. Отбрасывают густую тень на всю жизнь. На жизнь трудящегося человека. Сам затягивает петлю на собственной шее незрячий человек. Сам укрепляет решетки своей тюрьмы. Сам кует звенья опутывающей его цепи. Ненавидит тех, кто рвет эту цепь. Ведь этому его учили из поколенья в поколенье, изо дня в день, из часа в час. Он впитал это с материнским молоком, усвоил из поучений отца, из повседневной духовной пищи. Собственными плечами поддерживает он рушащееся здание, заботливо подпирает подгнившие балки.
Но Анатоль уже слышит, как трещат крепления. И Наталка изо всех сил напрягает слух в ночном мраке, прислушивается к гулким подземным ударам. Антек видит полдень безработной улицы — вздымается волна. Приближающийся вихрь развевает волосы Веронки. В глаза Эдека заглядывает первый отблеск пожара. Что-то новое, неведомое, иное сверлит мрак. Что-то, что не подходит под установленную мерку, не вмещается в пределы подъяремного мира.
Даже мать, молясь своему младенцу Иисусу в золотых ризках, ощущает на лице дыхание нового дня и теряется в смятении мыслей, в хаосе старых и новых верований, в мучительном раздвоении.
А между тем могло бы показаться, что все по-прежнему. Те же почерневшие от нищеты лица. Те же склоненные головы. Те же грязные дети над уличными канавами. Та же нищая протягивает руку под кирпичной стеной костела. Так же широко разлеглось темное тюремное здание, так же блистает начищенный синий мундир полицейского.
Но по земле идет глухой гул. Его не слышно на вторых и третьих этажах. Нужно низко, низко прильнуть ухом к земле. Он слышится в подвальных квартирах, в переулках, в грязи уличек — всюду, где его не глушат асфальт, паркет, ковер.
И все ждут.
По-разному.
Мрачно. Ожесточенно. Или радостно, с внезапным, быстрым сердцебиением. С опаской. С надеждой. Нетерпеливо. Стойко. Гневно. С верой. С сомнениями.
Но слез все меньше. Все больше стиснутых кулаков. Они сжимаются крепко. Жесткие черные мужские руки. Распаренные от кипятка и соды руки женщин. Маленькие худые детские ручонки. Обезображенные, искалеченные зубьями машины культяпки.
Уже нет вопроса: так или этак? Уже не засыпать зияющей черной расселины. Не перебросить моста, — он рухнет в черную бездну. Не протянуть с берега на берег никакой зеленой ветки, — ее пожрет огонь.
Уже нельзя выбрать тот или иной путь. Нет перелазов, тропок, боковых дорожек. Остался лишь один широкий, ясный, неизбежный путь.
И лишь один выбор — туда или сюда. Отстающих раздавят беспощадные колеса мчащейся истории.
Теперь налицо все. Антеки, Казики, Викторы, Генеки, Зоськи, Анельки, или как их там еще окрестили. Семя, брошенное в почву подвалов и чердаков, дает урожай. Зреют плоды всех этих ночлегов под мостом, попрошайничества на улицах, умирающих от чахотки женщин, инвалидов с оторванными руками, тринадцатилетних подростков, гнущих спину на работе. Отзывается эхо оскорблений мастера, презрительных взглядов инженера, грубостей привратника.
Все сплоченней братский круг. Схваченная в когти нужды, в когти кровавого гнета толпа вырастает в таинственную силу. Все крепче сплачиваются ряды. Даже бессознательно. Даже не понимая.
Гудит земля от шагов, зловеще гудит от шагов земля. Ноги в подкованных сапогах, ноги в расшлепанных ботинках. Ноги в старых резиновых тапках. Босые ноги.
Теперь они, все эти Антеки, Казики, Зоськи, и как их там еще, и вправду взрослые. Неустрашимыми глазами смотрят они во тьму, в мрачную бездну горя. Знающими глазами борющегося человека.
XVIII
Растет, множится, все шире распространяется горькое человеческое горе. Шумит. Играет по дворам на испорченных гармошках, раздирает слух фальшивыми звуками скрипки, бьет в бубен, захлебывается прерывистой мелодией. В воротах, на улицах, на площадях, за углом — всюду поет и играет горькое горе. Залихватски и весело, жалобно и страстно вымаливает себе горе гроши милостыни.
В такую четверку вступает и Флорек с кирпичного завода, уволенный на другую же неделю после смерти брата под глиной. Все-таки без него спокойнее, — еще начнутся следствия, разбирательства. А так — ищи ветра в поле!
Две скрипки, гармошка и флейта. Вот когда пригодилась его игра на завалинках в прежние годы, в деревне. Но дело даже и не в гармошке, а в его голосе.
Остановятся где-нибудь. Тоненько плачут скрипки, подпевает флейта. А потом припев — те трое и высокий, чистый девичий голос Флорека.
Открывается одно окно, другое. Смотрят. Слушают.
— Девушка.
— Какое там девушка, видишь — одни парни.
— Может, переодетая?
— Ну, что ты! Видно, что парень.
Высокий, чистый девичий голос.
Кого любовь наша обманет,—
Тебя лишь и меня.
Дама в белом платье приостанавливается. Роется в белой сумочке. Маленький Владек, который к ним приблудился, подбегает. А вон та бросает из окна, в бумажке. Сверточек с глухим звоном падает на землю. А другие — совсем ничего. Слушать слушают, а вынуть деньги не торопятся.
Кого любовь наша терзает, —
Тебя лишь и меня…
Высокий, звонкий, чистый голос.
— Парень, ей-богу парень!
— А что я говорила!
— Который, который это?
— Да вон тот, высокий, темный.
— Милые мои, глядите, как поет-то!
— И собой ничего…
И снова — из окна на мостовую. Но изредка, неохотно.
Проникновенно, страстно наполняет собой узкую улицу высокий голос:
Увядший цветок и листья
В забытой книжке стихов…
Тихо причитают скрипки, плачет флейта. Флорек вспоминает о Мундеке, как его засыпало, как его выкапывали из-под желтой глины. И о надзирателе. И о том, что мать еще ничего не знает. А может, и узнала откуда-нибудь.
Он поет, не сознавая даже, что поет. Выучился, теперь само льется. Тот или другой номер. Правда, эта легкость приходит не сразу. Надо знать, где и что спеть. Одно дело на людной улице. Другое — во дворе по утрам, когда прислуга выбивает ковры, а совсем иное после обеда, когда слушает публика почище. И непременно всегда что-нибудь новое, чтобы не прискучило. А бывает, что вдруг кому-нибудь полюбится что-нибудь одно, тогда приходится повторять. Перед четырехэтажным флигелем во дворе, что с садиком, там уж всегда одно:
На Эбро волны глядя с тоскою,
Цыганка младая сидела…
И тотчас на галерейке показывается толстая Марцыся и бросает десять грошей, а иной раз и что-нибудь из еды. Зато подальше можно выступать только с самыми модными боевиками. Иначе ничего не дадут. Высоким, чистым девичьим голосом Флорек поет… Поет о восточных гаремах, о поцелуях над Босфором, бог знает о чем! Какие-то немыслимые глупости, но публике, видно, нравится. Горячо, страстно вибрирует чистый голос.
— Вот, должно быть, фрукт, парень-то!
Обесцвеченные перекисью водорода локоны девушки вздрагивают от хихиканья. Другая, брюнетка, заговорщически подмигивает ему, а Флорек подсчитывает в уме, сколько приблизительно собрал Владек. Надо бы матери послать, да не выйдет. Только-только прокормишься, да и то не всякий день. Ведь четыре человека, да еще Владеку надо хоть сколько-нибудь дать, тоже мальчонка набегается, наломает спину.
Кабы еще только они одни. А то, бывает, только сунешься в ворота, дворник уж орет:
— Нечего тут, убирайтесь! Уж два раза сегодня были. Уши уже от этой музыки пухнут!
И правда, ведь сколько их ходит!
Слепой Амброж, инвалид войны. Маленький найденыш ведет его за руку, ну и ползет со своей гармошкой. Она невыносимо хрипит, сопит, стонет эта гармошка, а что поделаешь? Жить всякий хочет, слепому тоже пить-есть надо.
Потом еще хромой сапожник с женой. Работы у них не стало, мастерскую они продали, чтобы оплатить квартиру, а на остаток купили старую гитару — и ходят. Она наигрывает на гитаре, сапожник охрипшим, сорванным голосом поет. Да такие назойливые, ни за что не уйдут, пока что-нибудь не получат. Тут уж всякий дает, лишь бы отвязаться, лишь бы они поскорее убирались.