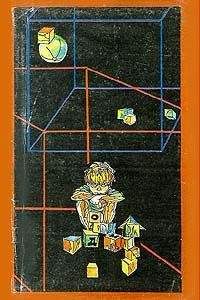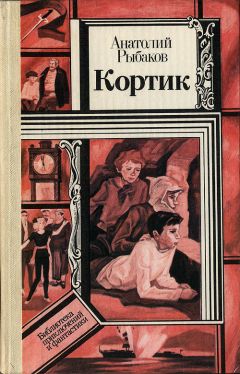Петру Думитриу - Буревестник
Спиру был недоволен собой, его мучил страх, что он перестал нравиться Анджелике. «Конечно, мне скоро пятьдесят, ей двадцать, она еще ребенок, что ей может во мне нравиться?» — думал он, в то же время дрожа от страсти при мысли, что она все-таки его любит. Огорченный неожиданными сомнениями Зарифу, он принялся убеждать его, что беспокоиться нечего, что все будет хорошо…
— Стой, это не все! Я тебе не все сказал! — шептал старик, тараща глаза. — Ты еще не знаешь! Нас подстерегают они. Гиены! Я встретил Микельса: он глядел на порт. Ему не удалось скрыть от меня своих намерений. Я прочел на его лице, как в открытой книге, все, о чем он думает. Все они ждут того же, что и мы. У них те же планы!
— Пустое, дядя Тасули, — рассмеялся Спиру. — Места хватит на всех. Море — широкое, портов на свете много.
— Не нравится мне все это. Решительно не нравится! Не говори так даже в шутку, — залепетал Зарифу. — Нет, нет, и еще раз нет! — произнес он нараспев, как говорят совсем дряхлые старики. — Нужно быть более честолюбивым. Если оставить их в покое, они завтра сговорятся между собой и погубят нас. Что с тобой сегодня, Спиру? Ты не похож на себя. Подумай лучше о кредите. Откуда взять денег для покупки парохода? Придумай что-нибудь: я верю в тебя. Подумай хорошенько и, наверное, что-нибудь придет тебе в голову. Я не для себя стараюсь, — сказал он, внезапно меняя тон и словно сообщая величайшую тайну, — ты ведь знаешь, что моя жизнь кончена, — для Анджелики.
«Анджелика! — думал Спиру, уходя в этот вечер от Зарифу. — Как понравиться Анджелике?» Он, знаменитый покоритель сердец, сохранивший, несмотря на долгий период вынужденного мрачного одиночества, манеры фатального мужчины, за последние недели, со времени своего знакомства с Анджеликой, переменился, стал неуклюжим, даже застенчивым, словно любовь к этой девушке парализовала все его способности. От прежнего самоуверенного Спиру Василиу не осталось и следа. Она играла с ним, как с куклой, а он то весело смеялся, то мрачнел от ее минутного каприза.
«Хорошо сказать: пароход! Но где его возьмешь? Где найти кредит?» — Спиру часто ломал себе голову над этими вопросами, сидя на скамейке и глядя на море, где гулял весенний ветер, раскачивавший на берегу сосны. На службе он был невнимателен, рассеян, вечно утомлен. Его критиковали, делали ему замечания, даже несколько раз, за более важные провинности, удержали кое-что из зарплаты.
Он ходил каждый вечер к Зарифу, пил с ним суррогат кофе и как мог утешал старика:
— Не волнуйтесь, дядя Тасули, я получу кредит под гарантию своего диплома капитана дальнего плавания. А если денег не хватит, то можно и занять, под обеспечение того кредита, который у меня будет. Кредит под кредит!
Когда они оставались одни с Анджеликой, он тискал ее руки, привлекал к себе, целовал — когда она нехотя позволяла это, — и страстно шептал:
— Я увезу тебя в Париж в длинной, чудесной машине — в лимузине «Кадияк». Мы пойдем в оперу, потом рядом спустимся по большой парадной лестнице: я во фраке, во всех регалиях, ты — в белом, до земли, платье со шлейфом, с бриллиантами в ушах, на шее, в волосах!
При последних словах он целовал ее в пахнущую дешевым одеколоном голову. Анджелика, отдавшись мечтам, не сопротивлялась.
— Одни будут спрашивать: «Кто это такие?» — «Богатый судовладелец из Александрии с женой, знаменитой красавицей…» — будут объяснять другие. Потому что мы с тобой, Анджелика, будем жить в Александрии, где так любят роскошь…
Анджелика только вздыхала:
— Ты обманываешь меня… Какой там судовладелец, какой Париж. Вздор все это! Где деньги? Где твои пароходы?
Спиру, после таких разговоров, уходил измученный, обессиленный, будто он целый день ворочал камни в самую жару и не выпил ни одного глотка воды. Ему хотелось рвать на себе волосы, которых и так оставалось у него немного. Как ее умилостивить? Чем соблазнить?
А старик Зарифу все твердил свое:
— Мы должны быть первыми, мы должны всех опередить! Подумай хорошенько, Спиру! Ты должен непременно достать денег или пароход!
XXIV
От лодки пахло смолой и рыбой. Рыбакам хотелось пить, они устали. Косма греб медленно, широкими взмахами. Емельян, сидя на корме, тянул снасть, крючок за крючком. Прошло уже много часов с тех пор, как они на закате вышли на промысел. Теперь давно уже была ночь; их мягко покачивала крупная зыбь; зеленоватая вода вскипала под веслом тысячами мелких пузырьков. Косме она напоминала выпитую им однажды в Констанце бутылку минеральной воды. Та была такая же пузырчатая, как эта, только теперь ему гораздо больше хотелось пить, чем тогда, но вода здесь была соленая и горькая и глубокая-преглубокая… Море было черно-зеленое, небо — изумрудное, луна — серебристо-зеленоватая, звезды и те сияли зеленоватым светом. На темном горизонте не виднелось ни единого огонька. Рыбакам казалось, что они совершенно одни на свете в озаряемой луной безбрежной водной пустыне.
— Стой! — крикнул вдруг Емельян.
На крючке трепыхалась большая камбала с множеством шипов и бугров. Косма ткнул ее багром, чтобы она не ушла.
— Косма! — повернулся к нему Емельян. — Ты бы поосторожней багром-то действовал, а то в меня чуть не попал!
— Я им куда хочу, туда и попадаю… — с мрачной гордостью ответил парень. — В игольное ухо, ежели надо, попаду.
Емельян ухватил камбалу, ловко сунув ей палец в рот, снял с крючка и кинул в лодку на кучу рыбы, о которую она громко шлепнулась.
— Держи правее, — пробормотал старшина и вдруг насторожился.
Оставаясь такими же твердыми и уверенными, как раньше, движения его рук замедлились. Под водой мелькнула тень, что-то блеснуло серебром, и снова появились темные, неясные очертания какого-то длинного тела.
— Косма… — произнес Емельян, неестественно спокойным голосом.
Парень бросил весла и взялся за багор, выжидая. Емельян выбирал снасть, все быстрее захватывая все больше и больше тонкого троса. Теперь уже ясно виднелось вилявшее и бившееся в воде продолговатое темно-синее туловище. Еще сажень-две снасти выбрал Емельян; добыча приблизилась, еще сажень — и огромная, пепельно-зеленая, треугольная, остроносая голова с открытой пастью и едва различимыми маленькими глазками показалась на поверхности. Это была белуга. Она яростно барахталась, ворочая воду мощным хвостом и как струну натягивая тонкий трос. Ее удары о борта лодки звучали, как удары молота о пустую бочку. Но вот она выгнулась и погрузила голову в воду. Емельян крякнул от усилия, изо всех сил дернул резавшую ему ладони снасть и снова вытащил свою жертву на поверхность. На это понадобилось всего несколько секунд. Лодка дрожала от ударов, белуга, которая почти не уступала ей в длине, неистово била хвостом по воде. Косма, слегка присев, изо всей силы — а силы у него было хоть отбавляй, — ударил ее багром. На белом брюхе обозначилась черная кровяная полоса. Косма ударил рыбину еще и еще раз. Потом, больше не глядя на нее, кинул окровавленный багор на банку и принялся помогать старшине:
— Тащи, дядя Емельян… Головой чтобы вниз, там у нее самая тяжесть…
— Меня, щенок, вздумал учить, — прохрипел Емельян, обливаясь потом. — Без тебя знаю, только тут, в одной голове, должно, сто кило будет.
Он размахнулся и ударил белугу кулаком. В следующую минуту Косма ахнул ее по голове деревянным молотком, выбив ей глаз.
Потом оба, поддев рыбину короткими баграми, с трудом перекинули ее в лодку. За бортом болтался только хвост. Емельян взял брошенный Космой багор и подцепил им хвост в самом узком месте. Когда все было кончено, рыбаки сели отдохнуть. С них градом лил пот; они утерлись рукавами взглянув на белугу, многозначительно переглянулись:
— Двести будет — не меньше, — сказал Емельян.
— А может, и с лишком, — подтвердил парень.
После размолвки с Маргаритой, это было в первый раз, что Косма заговорил сам, не дожидаясь, чтобы его спросили. Он довольно улыбался, глядя своими ясными, детскими глазами на громадную рыбину, почти целиком заполнившую лодку. Емельян похлопал его по плечу:
— Ну и ловок же ты, малый! Будь мы с тобой враги, я бы тебя боялся… Прямо в сердце угодил!
Детские глаза Космы затуманились, лицо чуть заметно искривилось. Оно было так мрачно, что казалось возмужавшим.
— А куда же еще метить-то? — произнес он с невеселым смехом. — Ясное дело, что в сердце. Я тебе говорил, куда хочу, туда и попадаю, без промаха, значит…
После этого он снова погрузился в безмолвие. Емельян посмотрел на него пытливым, удивленным взглядом и взялся за снасть.
— Держи правее… Нажми… Лодку-то окатить придется — вся в крови…
* * *Море сверкало, и его гладкая голубая поверхность уходила, казалось, за горизонт, сливаясь с небом, в котором нарождались, росли и таяли белые легкие облака. Неизвестно откуда появлялась вдруг розоватая тучка, потом распадалась, исходила клубами легкого пара, мгновение — и ее уже нету — растаяла в знойном воздухе. Иногда, вызывая рябь, пробегал легкий, прохладный бриз, и потом снова все успокаивалось и горячий воздух снова становился неподвижным.