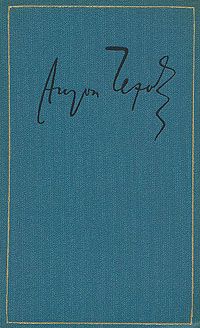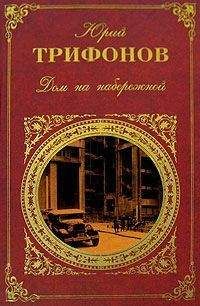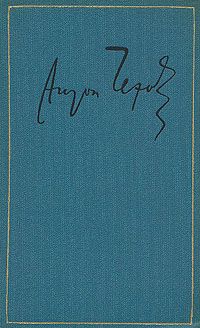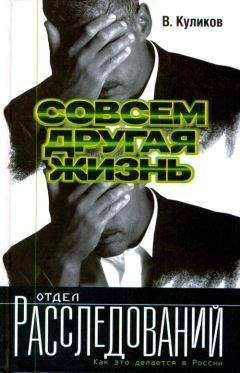Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1892-1894
VIII
Рождественские святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизующему какую-то губернию.
– Не хочется ехать, да не придумаешь отговорки! – сказал он с досадой. – Надо ехать, ничего не поделаешь.
От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.
– Надолго? – спросила она.
– Дней на пять.
– Я, признаться, рада, что ты едешь, – сказала она, подумав. – Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.
Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он не свободен.
– Я поеду сегодня вечером, – сказал он и стал читать газеты.
Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вокзал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.
В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукой и поцеловал в лоб и в губы.
– Будь умницей, не скучай без меня, – проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул. – Храни тебя создатель.
Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.
– Прости мне наши недоразумения, – сказала она по-французски. – Муж и жена не могут не ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай… Телеграфируй почаще и подробнее.
Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на средине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешительно спускаться вниз.
У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?
Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:
– Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!
Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой, мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.
– Вот что, Степан, – сказал он, подходя ко мне. – Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.
Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.
– Не опоздали к поезду? – спросила Зинаида Федоровна.
– Никак нет. Приказали кланяться.
Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был неплохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, сгодилось очевидно то, что первое пришло в голову; удастся обман – хорошо, не удастся – беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.
В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали ура, Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого лежанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.
– Нужно отправить телеграмму, – сказала она и улыбнулась. – Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.
Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».
Я послал эту телеграмму и на другой день утром отдал расписку.
IX
Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.
– Зажилась, пора и честь знать! – говорила она с восторгом. – Самой бы надо понимать…
Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас не долго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила всё, что попадалось на глаза, – флаконы, черепаховые шпильки, платки, ботинки. На другой день нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам, бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:
– Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!
За обедом она хотела налить себе супу, но не могла, – дрожали руки. И губы у нее дрожали. Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.
– Вы, Поля, можете выйти отсюда, – сказала она. – Достаточно одного Степана.
– Ничего-с, постою-с, – ответила Поля.
– Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем… совсем! – продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении. – Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!
– Без приказания барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.
– Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! – сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.
– Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.
– Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! – крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке. – Вы воровка! Слышите?
Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, показалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан, – как бы говорили они, – а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».
– Важная барыня, подумаешь! – доносилось до моего слуха из комнаты Поли. – Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!
Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.
– Телеграммы не приносили? – спросила она.
– Никак нет.
– Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому, – сказала она мне вслед, – мне страшно оставаться одной.
Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы. Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например, распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин, и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля, как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкапах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки – нет ли в них телеграммы.