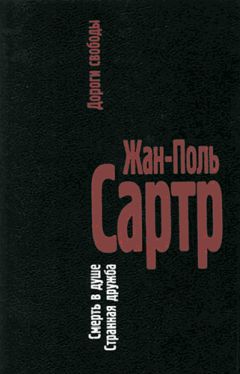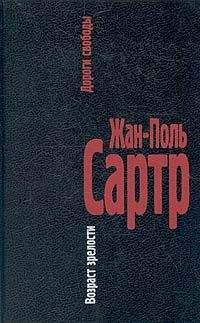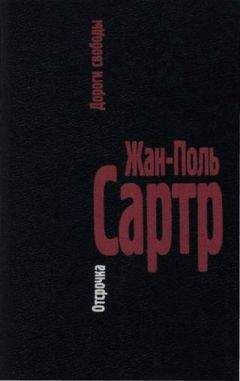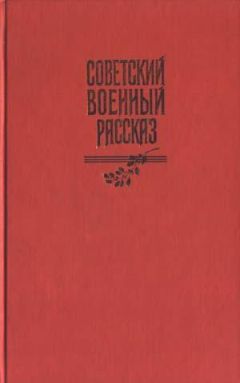Жан-Поль Сартр - Дороги свободы. III.Смерть в душе. IV.Странная дружба
— Но что сделано, то сделано. Только в идеале есть обязанности, не противоречащие друг другу. Прости, что я морочу тебе голову, бедняжка. Это неизбежные мужские сомнения.
— Я вполне в состоянии их понять.
— Естественно, дитя мое, естественно. — Он улыбнулся ей сурово и отчужденно, потом взял ее за запястье и успокаивающе добавил:
— А что, в конце концов, могло бы со мной случиться? В худшем случае, всех трудоспособных мужчин угнали бы в Германию, ну и что? Матье там хорошо. Правда, в отличие от меня, у него не барахлит сердце. Помнишь, как этот дурак-майор освободил меня от военной службы? Я чуть не лопнул от бешенства, я был готов на все, что угодно. Помнишь, как я был разъярен?
— Да.
Он сел на ступеньку машины и обхватил голову руками, он смотрел прямо перед собой.
— Шарвоз остался, — сказал он, глядя в одну точку. — А?
— Он остался. Я встретил его сегодня утром в гараже. Он удивился, что я уезжаю.
— Он совсем другой человек, — проговорила она машинально.
— Да, действительно, — с горечью согласился он. — Он ведь холостяк.
Одетта стояла слева от него, она смотрела на его голову, кожа местами просвечивала под волосами, она подумала: «Ах, вот с но что!»
У него были бегающие глаза. Он сказал сквозь зубы:
— Мне некому тебя доверить. Она напряглась:
— Что ты сказал?
— Я говорю: мне некому тебя доверить. Если бы я решился отпустить тебя одну к твоей тетке…
— Ты хочешь сказать, — дрожащим голосом проговорила она, — что ты уехал из-за меня?
— Иначе я не мог, — ответил он. Он с нежностью посмотрел на нее:
— В последние дни ты была такой нервной: ты меня просто пугала.
Она онемела от изумления: «Ради меня? Но с какой стати?»
Жак продолжал с лихорадочной веселостью:
— Ты все время закрывала ставни, мы весь день жили в темноте, ты копила консервы, я буквально наступал на банки с сардинами… А потом, мне кажется, что твое общение с Люсьенной причиняло тебе много вреда; когда она уходила от нас, ты становилась совсем другой: она с придурью, малость не в себе и очень уж верит всяким страшным историям про немцев — об отрубленных руках, изнасилованиях и тому подобному.
Я не хочу. Я не хочу говорить ему то, чего он от меня ждет. С чем я останусь, если признаю, что презираю его? Она сделала шаг назад. Он остановил на ней стальной взгляд, он как бы понуждал ее: «Ну, скажи это. Скажи же!» И снова под этим орлиным взглядом, под взглядом своего супруга она почувствовала себя виноватой; что ж, возможно, он подумал, что я хочу уехать, возможно, у меня был испуганный вид, возможно, я действительно боялась, не сознавая этого. Что здесь правда? До сих пор правдой было то, что говорил Жак; если я больше этому не верю, чему мне верить? Она проговорила, понурившись:
— Мне не хотелось оставаться в Париже.
— Тебе было страшно? — доброжелательно спросил он.
— Да, мне было страшно.
Когда она подняла голову, Жак смотрел на нее, посмеиваясь.
— Ладно! — сказал он. — Все это не так уж скверно; правда, ночь под открытым небом нам не совсем по годам. Но мы еще молоды и можем увидеть в этом некое очарование. — Он легко погладил ее по затылку. — Помнишь Иер в тридцать шестом году? Мы спали в палатке, но это одно из моих самых дорогих воспоминаний.
Одетта не ответила: она судорожно ухватилась за ручку дверцы и стиснула ее изо всех сил. Жак подавил зевок:
— Как поздно. Может быть, ляжем?
Она утвердительно кивнула. Прокричал какой-то ночной зверь, и Жак разразился хохотом.
— Как это по-сельски! — сказал он. — Располагайся на заднем сиденье, — добавил он заботливо. — Ты сможешь немного вытянуть ноги, а я буду спать у руля.
Они сели в машину: Жак запер на ключ правую дверцу и накинул цепочку на левую.
— Тебе удобно?
— Очень.
Он вытащил револьвер и, ухмыляясь, осмотрел его.
— Вот ситуация, которая восхитила бы моего старого пирата деда, — сказал он. И весело добавил: — Все мы в семье немножко корсары.
Она промолчала. Жак развернулся на своем сиденье и взял ее за подбородок:
— Поцелуй меня, моя радость.
Она почувствовала его горячий открытый рот, прильнувший к ее рту; он слегка лизнул ей губы, как раньше, и она вздрогнула; в то же время она почувствовала, как его рука скользнула ей под мышку, лаская ей грудь.
— Моя бедная Одетта, — нежно проговорил он. — Моя бедная девочка, моя бедная малютка.
Она откинулась назад и сказала:
— Мне до смерти хочется спать.
— Спокойной ночи, любовь моя, — ответил он, улыбаясь. Жак повернулся, скрестил руки на руле и уронил голову на руки. Она сидела, выпрямившись, угнетенная: она выжидала. Два вздоха, это еще не сон. Он еще шевелится. Она не могла ни о чем думать, пока он бодрствует и думает о ней; я никогда ни о чем не могла размышлять, когда он рядом. Готово: он трижды по-своему пробурчал; она немного расслабилась — он всего лишь животное. Теперь он спал, спала война, спал мир людей, живший в этой голове; выпрямившись в темноте между двумя меловыми стеклами на дне лунного озера, Одетта бодрствовала, очень давнее воспоминание всплыло в ее памяти: я бежала по розовой тропинке, мне было двенадцать лет, я остановилась с бьющимся от беспокойной радости сердцем и громко сказала: «Я необходима». Одетта повторила: «Я необходима», но она не знала, для чего; она попыталась думать о войне, ей казалось, что сейчас она найдет истину: «Разве это правда, что победа на руку только России?» Она оставила эту мысль, и ее радость сменилась отвращением. «Я об этом слишком мало знаю».
Ей захотелось курить. Скорее всего, от нервозности. Желание разбухало, у нее зашемило в груди. Желание сильное и неодолимое, как во времена ее капризного детства; он положил пачку в карман пиджака. Зачем ему курить? Вкус табака у него во рту должен быть таким скучным, таким иллюзорным, мне закурить важнее. Она наклонилась к нему; он посапывал; она запустила руку ему в карман, вытащила сигареты, потом, сняв цепочку, тихо открыла дверцу и выскользнула наружу. Свет луны сквозь листву, пятна луны на дороге, свежее дуновение, этот крик животного — все это мое. Она зажгла сигарету, война спит, Берлин спит, Москва спит, Черчилль, Политбюро, все наши политики спят, все спит, никто не видит мою ночь, я необходима; банки с консервами — это для моих подшефных солдат. Одетта вдруг заметила, что ей противен табак; она сделала еще две затяжки, потом бросила сигарету: она уже сама не знала, почему ей так хотелось курить Листва тихо шумела, поле поскрипывало, как паркет. Звезды казались живыми, ей было страшновато; Жак спал, и она понемногу обретала непонятный мир своего детства, заросли вопросов без ответов; это он знал названия звезд, точное расстояние от Земли до Луны, сколько жителей в квартале, их жизнь, их занятия; он спит, я его презираю, но сама я не знаю ничего; она чувствовала себя затерянной в этом непостижимом мире, в этом мире, где можно было только видеть и трогать. Одетта побежала к машине, она хотела сейчас же его разбудить, разбудить Знание, Экономику, Мораль. Она положила ладонь на ручку, склонилась над дверцей и сквозь стекло увидела широко разинутый рот. «Зачем?» — подумала Одетта. Она присела на ступеньку и, как каждый вечер, принялась думать о Матье.
Лейтенант бегом поднимался по темной лестнице; они бежали и делали повороты вслед за ним. Лейтенант остановился в полном мраке и уперся затылком в люк; и их ослепил яркий серебристый свет.
— Следуйте за мной.
Они выскочили в холодное светлое небо, полное воспоминаний и легких шумов. Чей-то голос спросил:
— Кто здесь?
— Это я, — сказал лейтенант.
— Смирно!
— Вольно, — приказал лейтенант.
Они очутились на квадратном настиле на вершине колокольни. По углам кровлю поддерживали четыре столба. Между столбами шел каменный парапет метровой высоты. Повсюду было небо. Луна отбрасывала косую тень столба на пол.
— Ну как? — спросил лейтенант. — Здесь все в порядке?
— В порядке, господин лейтенант.
Перед ним стояли трое, длинные, худые, с винтовками. Матье и Пинетт смущенно держались позади лейтенанта.
— Мы остаемся здесь, господин лейтенант? — спросил один из троих стрелков.
— Да, — ответил лейтенант. И добавил: — Я поместил Кессона и еще четверых в мэрии, остальные будут со мной в здании школы. Дрейе обеспечит связь.
— Какие будут распоряжения?
— Огонь ведите сильный. Не жалейте боеприпасов.
— Что это?
Приглушенные возгласы, шарканье ног: звуки шли снизу, с улицы. Лейтенант улыбнулся:
— Этих штабных прихвостней я загнал в погреб мэрии. Им там будет тесновато, но это только на одну ночь: завтра утром боши, как только покончат с нами, получат их целехонькими.