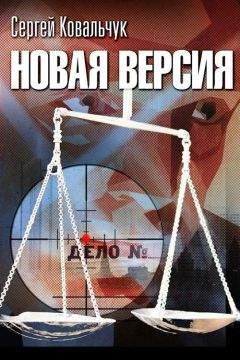Томас Гарди - Мэр Кэстербриджа
– Я вынужден быть построже, – сказал он.
– Почему?
– Вы… вы богаты; а я – торговец зерном и сеном, пока еще только пробивающий себе дорогу.
– Но я очень честолюбивая женщина.
– Видите ли, я не могу хорошенько объяснить все это. Я не умею говорить с дамами, все равно, честолюбивы они или нет; совсем не умею, – проговорил Дональд серьезным тоном, словно сожалея, что не умеет. – Я стараюсь быть вежливым… и только!
– Я вижу, вы такой, каким себя рисуете, – заметила она, явно беря над ним верх в этом обмене излияниями.
Смущенный ее проницательностью, Фарфрэ снова повернулся к окну и устремил глаза на кишевшую народом ярмарку.
Два фермера, встретившись, пожали друг другу руки и остановились под самым окном; слова их были слышны так же отчетливо, как слова влюбленных.
– Вы не видели мистера Фарфрэ нынче утром? – спросил один фермер. – Он обещал встретиться со мной здесь ровно в двенадцать, и я уже несколько раз прошелся по ярмарке, но его нигде не видно, хотя обычно он – хозяин своего слова.
– А я и позабыл об этом свидании, – пробормотал Фарфрэ.
– Значит, вам придется уйти? – спросила Люсетта.
– Да, – ответил Дональд. Но не двинулся с места.
– Идите, идите, – посоветовала она. – А не то потеряете клиента.
– Слушайте, мисс Темплмэн, вы заставите меня рассердиться, – воскликнул Фарфрэ.
– Ну так не ходите, посидите еще немного.
Фарфрэ, волнуясь, наблюдал за искавшим его фермером, тот уже направился в ту сторону, где стоял Хенчард, а это не сулило ничего хорошего; он повернулся и посмотрел на Люсетту.
– Мне хочется остаться, но, к сожалению, надо идти! – проговорил он. – Нельзя же бросать дела, ведь правда?
– Ни на минуту.
– Это верно. Я зайду в другой раз… вы разрешите, сударыня?
– Конечно, – сказала она. – Как все это странно – то, что сегодня у нас получилось.
– Будет о чем подумать, когда мы останемся одни, не правда ли?
– Ну, не знаю! В сущности, в этом не было ничего особенного.
– Нет, я бы так не сказал. О нет!
– Так или иначе, теперь это уже позади, а рынок зовет вас и требует, чтобы вы ушли.
– Да, да. Рынок… дела! Желал бы я, чтобы на свете не было никаких дел!
Люсетта чуть не рассмеялась, да она и рассмеялась бы, если бы не испытывала легкого волнения.
– Как вы изменчивы! – сказала она. – Нехорошо так быстро меняться.
– Раньше у меня подобных желаний и в мыслях не было, – глядя на нее, проговорил шотландец: казалось, он, простодушно стыдясь своей слабости, извиняется за нее. – Это только с тех пор, как я пришел сюда и увидел вас!
– Если так, не смотрите на меня больше никогда. О господи, я чувствую, что я вас совсем сбила с пути истинного!
– Но смотрю я или не смотрю, все равно я буду вас видеть мысленно. Итак, я ухожу… благодарю вас за приятную беседу.
– А я благодарю вас за то, что вы посидели со мной.
– Может быть, там, на улице, ко мне через несколько минут вернется деловое настроение, – пробормотал он. – Но не знаю… не знаю!
Когда он уже был у двери, Люсетта горячо проговорила:
– Со временем вы, вероятно, услышите, как обо мне будут говорить в Кэстербридже. Если вам скажут, что я кокетка, а это могут сказать, придравшись к некоторым событиям из моего прошлого, не верьте, потому что это неправда.
– Клянусь, что не поверю! – пылко уверил он ее.
Вот как обстояло дело с этими двумя. Она так очаровала молодого человека, что сердце его переполнилось восторгом, а он пробудил в Люсетте глубокую симпатию, потому что дал ей возможность по-новому заполнить ее праздность. Почему так случилось? Сами они не могли бы этого объяснить.
В юности Люсетта и смотреть бы не стала на купца. Но ее взлеты и падения, а в особенности ее неосторожное поведение на Джерси, когда она познакомилась с Хенчардом, так на нее повлияли, что она перестала обращать внимание на общественное положение людей. Когда она была бедна, ее оттолкнуло то общество, к которому она принадлежала по рождению, и теперь ей уже не хотелось сближаться с ним. Она тосковала по какому-то пристанищу, где могла бы укрыться и обрести покой. Ей было все равно, мягкое там будет ложе или жесткое, лишь бы было тепло.
Фарфрэ вышел и не вспомнив о том, что пришел сюда увидеться с Элизабет. Люсетта, сидя у окна, следила за ним глазами, пока он пробивался сквозь толпу фермеров и батраков. Она угадала по его походке, что он чувствует на себе ее взгляд, и сердце ее, тронутое его скромностью, потянулось к нему и склонило на свою сторону разум, твердивший, что не надо позволять этому юноше приходить к ней снова. Фарфрэ вошел в торговые ряды, и Люсетта его больше не видела.
Три минуты спустя, когда она ужо отошла от окна, раздалось несколько редких, но сильных ударов в парадную дверь, прогремевших по всему дому, и в комнату вошла горничная.
– Пришел мэр, – доложила она.
Люсетта, полулежа, мечтательно разглядывала свои пальцы. Она ответила не сразу, и горничная повторила свои слова, добавив:
– И он говорит, что времени у него мало.
– Вот как! Ну, так скажите ему, что у меня болит голова и лучше мне не задерживать его сегодня.
Горничная ушла передать гостю ее слова, и Люсетта услышала, как захлопнулась дверь.
Люсетта приехала в Кэстербридж, чтобы подогреть чувства, которые питал к ней Хенчард. И подогрела их, но уже не радовалась своему успеху.
Теперь она не думала, как утром, что Элизабет-Джейн ей мешает, и не чувствовала острой необходимости отделаться от девушки, чтобы привлечь к себе ее отчима. Когда Элизабет-Джейн вернулась, не ведая в простоте души о том, что события приняли иной оборот, Люсетта подошла к ней и проговорила совершенно искренне:
– Как я рада, что вы вернулись. Вы будете жить у меня долго, ведь правда?
Элизабет в роли сторожевой собаки, которая должна отпугивать собственного отца, – вот так новость! И Люсетте это было даже приятно. Все эти дни Хенчард пренебрегал ею, несмотря на то, что тяжко скомпрометировал ее когда-то. Самое меньшее, что он должен был сделать, когда стал свободным, а она разбогатела, это горячо и быстро откликнуться на ее приглашение.
Волна ее чувств вздымалась, падала, дробилась на мелкие волны, и все это было так неожиданно, что ее обуяли пугающие предчувствия. Вот как прошел для Люсетты этот день.
ГЛАВА XXIV
Бедная Элизабет-Джейн, она и не подозревала о том, что ее несчастливая звезда уже заморозила еще не расцветшее влечение к ней Дональда Фарфрэ, и обрадовалась предложению Люсетты остаться у нее надолго.
Ведь в доме Люсетты она не только нашла приют: отсюда она могла смотреть на рыночную площадь, которая интересовала ее не меньше, чем Люсетту. «Перекресток» – так здесь называли это место – напоминал традиционные «улицы» и «площади» на сцене, где все, что происходит на них, неизменно влияет на жизнь людей, обитающих по соседству. Фермеры, купцы, торговцы молочными продуктами, знахари, разносчики сходились сюда еженедельно по субботам, а к вечеру расходились. Здесь была точка пересечения всех орбит.
Обе приятельницы жили теперь не от одного дня до другого, а от субботы до субботы. Если же говорить о жизни чувств, то в промежутках между субботами они не жили вовсе. Куда бы они ни ходили в другие дни недели, в базарный день они обязательно сидели дома. Обе смотрели в окно, украдкой бросая взгляды на плечи и голову Фарфрэ. Лицо его они видели редко, так как он избегал смотреть в их сторону – то ли от застенчивости, то ли из боязни отвлечься от дел.
Так они жили, пока однажды утром базарный день не принес новой сенсации. Элизабет и ее хозяйка сидели за первым завтраком, когда на имя Люсетты пришла посылка из Лондона с двумя платьями. Люсетта вызвала Элизабет-Джейн из-за стола, и девушка, войдя в спальню подруги, увидела оба платья, разостланные на постели, – одно темно-вишневое, другое – более светлое; на обшлагах рукавов лежало по перчатке, у воротников – по шляпе, поперек перчаток были положены зонтики, а Люсетта стояла возле этого подобия женских фигур в созерцательной позе.
– Не стоит так долго раздумывать, – сказала Элизабет, заметив, как сосредоточилась Люсетта, стараясь ответить себе на вопрос, которое из двух платьев будет ей больше к лицу.
– Но выбирать новые наряды так трудно, – сказала Люсетта. – Или ты будешь этой особой, – и она показала пальцем на одно платье, – или ты будешь той, – и она показала на другое, – ничуть не похожей на первую; и это – в течение всей будущей весны, причем одна из этих особ – какая неизвестно – может оказаться очень непривлекательной.
В конце концов было решено, что мисс Темплмэн сделается темно-вишневой особой, а там будь что будет. Платье было признано во всех отношениях превосходным, и, надев его, Люсетта перешла в комнату с окнами на улицу, а Элизабет последовала за ней.
Утро было исключительно ясное для конца зимы. Солнце так ярко освещало мостовую и дома на той стороне улицы, что отраженный ими свет заливал комнаты Люсетты. Внезапно раздался стук колес; на потолке, озаренном этим ровным светом, заплясали фантастические вереницы вращающихся светлых кругов, и обе приятельницы повернулись к окну. Какой-то диковинный экипаж остановился прямо против дома, словно его здесь выставили для обозрения.