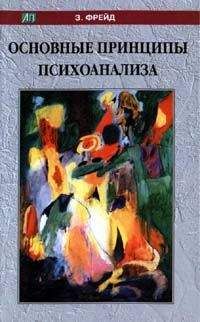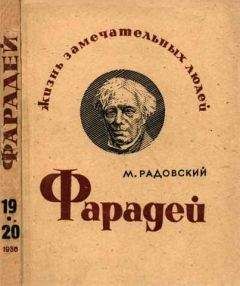Моисей Кульбак - Зелменяне
Понятно, что из-за одного этого отношения между ними довольно холодные. Не говоря уже о том, что Соня вообще не любит женщин, пусть даже не прислуг. Она давно затаила в душе обиду на Павлюка: как это он до сих пор не устроил так, чтобы существовали только мужчины, а среди них лишь одна особа женского пола — Соня дяди Зиши!
* * *В один такой вечер зашла Тонька. Вообще, как известно, ее во дворе недолюбливают. Просто не знают, чего она хочет. Ребенка она, слава Богу, уже заимела. Отец ребенка представлен круглой печатью на письме с Камчатки. Одним словом, завидная жизнь, есть на что посмотреть! Во дворе Тонька какая-то чужая, и, как говорят, с ней лучше не связываться.
Она вошла.
Конечно, Павлюк набрался духу и попросил ее составить компанию, хотя хорошо знал, что с ними она играть не будет.
Соня спросила:
— Что это вдруг, дорогая сестра?
— Зашла проведать, — отвечает Тонька, — посмотреть, что люди поделывают.
— Вот как! Что люди поделывают! А ты в карты не играешь?
Соня вдруг вспыхнула, как спичка, и тут же заболела всеми своими семьюдесятью болезнями.
— Да, — стала ее успокаивать Тонька, — играю.
— И кажется, пьешь водку тоже?
Тем временем Соня пересела на диван и приготовила себе место для обморока.
Но Тонька улыбнулась и сказала очень спокойно, что зашла не для этого, а по поводу мамы, тети Гиты, которая в последние дни стала пропадать из дому.
Соня понюхала несколько раз из разных пузырьков, побрызгала чем-то руки, смочила чем-то губы, а потом спросила уже совсем другим голосом:
— Так где же она пропадает? — И при этом она подумала вовсе не о матери, а о себе: ей казалось, что в последнее время она перестала следить за собой, за своим шатким здоровьем, и, в конце концов, слишком занята чужими заботами.
О, Соня дяди Зиши рассчитывает исключительно на свои собственные силы!
К Зелменовым, понятно, не может быть доверия: они были не в состоянии понять и менее сложные болезни ее отца, где же им понять ее недуги! Для того чтобы их постигнуть, надо все же быть пообтесаннее.
И вообще — что значит для Зелменова быть больным?
Известно, что для Зелменова быть больным — значит лежать в лёжку и не быть в состоянии шевельнуть пальцем. Это не по Сониным слабым силам.
Вот заболел мостильщик — так он лежал на скамье возле печи, накрытый шубами, и выпивал сорок стаканов чаю в день. Он пил до тех пор, покуда из-под шуб не ударил пар, как из кучи навоза, и лишь тогда тетя Малкеле облегченно вздохнула, потому что было ясно, что его пробрало.
Разве это по Сониным слабым силам?
И может быть, она права, что вот теперь не принимает близко к сердцу волнений по поводу матери. Ведь, в конце концов, ее мать не молодая женщина в расцвете лет, как Соня. Она старый человек и к трудностям давно привыкла.
* * *Снег стал таять. На солнечной, высохшей стороне крыши орали кошки, одна — рябая, принадлежащая Хаеле дяди Юды. Видимо, дело идет к весне.
В окнах с заплатанными двойными рамами — тех, что на солнечной стороне, — вдруг показался новый сорт маленьких реб-Зелмелов с круглыми, крутыми головками и плоскими носиками — все больше мальчишки, вскормленные на прошлогоднем урожае картофеля, — новый сорт Зелмочков, не имеющих еще возможности гулять на собственных ножках и пока передвигающихся на попке.
В канавах реб-зелменовского двора журчат предвесенние ручейки, веселые солнечные пятна блуждают по стенам. Двор вышелушивается из грязного снега — весь двор, кроме продолговатого дома тети Гиты, который вечно в тени. Теперь на нем часто висит замок. В последнее время тетя Гита стала где-то пропадать.
Иногда дядя Ича заглядывает к ней в окна, но этот сумрачный дом пустует. В нем качаются маятники старинных часов дяди Зиши.
Все полны забот о тете, и Соня, кажется, тоже кое-что предприняла. Она просила сказать во дворе, что особенно беспокоиться нечего, потому что Павлюк видел как-то тетю Гиту среди набожных евреев. Но он с его деликатным характером не подошел к ней: он не хотел смущать тещу.
Несколькими днями позже тетя Гита стояла с ведерком мела и белила свой дом. Она выставила двойные рамы и затопила печи. Потом видели, как тетя схватила мочалку и пошла в баню.
Раз так, все поняли, что это неспроста.
И назавтра к вечеру это случилось.
Дом дяди Зиши светился во дворе всеми своими вымытыми стеклами. На стенах тикали начищенные часы, весело качались маятники и двигались стрелки.
Посреди комнаты стоял накрытый белой скатертью стол с бутылкой красного вина на нем, с салфетками, с тарелками, с яйцами, со стопками. В центре сидела высокая, почтенная тетя Гита в старом китле[13] дяди Зиши, с очками на носу. Она покачивалась и с чувством читала по книге.
Зелменовы вышли из своих домов и, стоя на пороге, издали смотрели — немного со страхом, немного со стыдом — на дом, откуда шли все бедствия.
Не спятила ли тетя?
Маленькие реб-Зелмочки, заложив пальцы в носы, висели под окнами дяди Зиши и заглядывали в комнату с удивлением и ужасом. По поведению тети, по всем ее движениям они понимали, что она, должно быть, собирается умирать. Маленькие реб-Зелмочки слышали о том, что люди умирают, но они еще не знали, как это делают.
Тем временем послали за Тонькой, чтобы она как можно скорее пришла посмотреть, что творится с матерью. Люди растерялись. Хорошо еще, что дядя Ича в ту пору как раз вернулся с улицы. Он сразу подошел к окну, заглянул в дом и после того, как с холодным спокойствием понаблюдал за тем, что она там делает, повернулся к собравшимся во дворе:
— Олухи, разве вы не видите, что она справляет Сейдер?
Зелменовы рванулись к окнам. Действительно, тетя Гита сидела и читала Агоду.[14] Она макала палец в вино и «смывала напасти».
Двор почернел от Зелменовых.
Они группками стояли у окон тети Гиты, как евреи в Египте, говорили о Пасхе, о вине, а потом о Питоме и Раамесе.[15] Затем они перешли просто к сплетням и галдели, как дикари.
Но очевидно, тете Гите было мало ее собственной набожности, у нее была еще потребность наказать людей, сбившихся с пути истинного. Она вдруг встала, открыла окно во двор и, когда стихло, сказала:
— А ты, Ичка, думаешь, что тебе, не дай Бог, повредит, если будешь соблюдать Пасху, как все евреи?
Немало испытавший дядя Ича опустил голову. Теперь за него заступилась злая на язык бабенка дяди Фоли.
— Тетя, — закричала она, — его оставьте в покое, он рабочий!
Тогда тетя Гита повернулась в другую сторону и сказала своим мужским голосом:
— А ты, Малкеле, верно, тоже считаешь себя современной?
Это было очень тяжкое обвинение, и тетя Малкеле покраснела от стыда. Сбившийся с пути реб-зелменовский двор умолк под карающими взглядами набожной тети.
Она оценила момент и прочла Зелменовым серьезную проповедь языком набожной женщины.
— Насколько я вижу, — сказала она, — ваша испорченность проистекает от двух ваших привычек. Первая заключается в том, что вы потворствуете своей плоти и единственное ваше стремление — жрать и пить, то есть вы хотите вкушать только наслаждения. Вторая таится в том, что в вас нет смирения: вы не хотите понять, откуда вы пришли и кто вы такие есть. А пришли вы в мир от вонючей капли, и при жизни своей и после смерти вы прах и тлен. Посему имейте лучше стремления к поступкам хорошим, чтобы быть достойными милости и благодати, а не страшной кары, которая вам уготовлена… Да знаете ли вы, пропащие души, что за кара вас ждет? Вас будут побивать камнями, сжигать, душить и убивать мечом!
В святом гневе она захлопнула окно, потому что действительно стыдно было смотреть, как целый двор евреев вместе со своими женами сбросил с себя бремя веры и, вместо того чтобы сидеть дома и справлять сейдер, судачит у другого под окнами.
Во дворе было уже совсем темно, только слышно было, как по канавам бегут со стеклянным звоном предвесенние ручейки.
И тогда из темноты донеслось ворчание мостильщика:
— Горе нам, если уж баба должна спасать еврейскую религию! — А потом он добавил еще мрачнее: — И почему молчат раввины, будь они неладны? Попили нашей крови!
Похоже было на то, что этот мрачный еврей именно теперь замахнулся на целую речь. Но дядя Ича неожиданно воспрянул духом и стал вдруг всех разгонять:
— Чего вы здесь не видели, олухи? Чего?
И он стал стайками загонять народ в затхлые дома, как загоняют гусей.
Вскоре громыхнул железный засов ставни, как сигнал ко сну. Реб-зелменовский двор зевнул на всю улицу. Потом еще где-то сидел какой-то Зелменов, запоздалый обжора, который не хотел лечь без ужина и рвал волчьими зубами воблу, заедая ее хлебом.
Реб-зелменовский двор понемногу засыпал, покуда совсем не погрузился в глубокий сон.