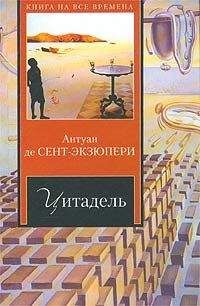Антуан де Сент-Экзюпери - Цитадель
LXX
Да, она была прекрасна, эта танцовщица, которую наконец схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живёт, в моём царстве откроются неведомые доселе земли, пространные равнины, тёмные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам.
«И у неё есть дом», — говорил я. Но видно было, что она нездешняя и живёт среди нас как посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить её молчание, но её прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой.
Прежде всего я чту в человеке то, что неподвластно огню. Оболочка человека, ты пьяна от тщеславия, ты — само тщеславие, когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и впрямь кто-то есть. Но палач поднёс поближе к тебе горящие угли, и нутро твоё растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор, не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота, он выдал мне всех заговорщиков, он исповедался, признавшись во всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях, он вывернулся передо мной наизнанку — те, кто носит картонные доспехи, не таят про себя ничего. После того как он оплевал и отрёкся от своих союзников, я спросил у него:
— Как ты устроен? Для чего важно выставляешь вперёд живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное упасаешь ты свои дряблые телеса, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты — бурдюк, урчащий ветром дурацких слов…
Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть и ещё более отвратительно слушать.
Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне.
— Я сожалею, государь…
Я смотрел на неё, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела ещё более плавно.
— Я сожалею, государь…
Она думала, какие страшные её ждут муки.
— Ты же знаешь, — сказал я ей, — твоя жизнь в моей власти.
— Я чту вашу власть, государь…
Тайна, которую она хранила, и готовность умереть за неё исполняли её необычайной значимостью.
Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри. Но я должен был исполнить свой долг перед царством.
— Твои поступки заслуживают смерти.
— Увы, государь… — Она стала ещё бледнее, будто призналась мне в любви. — Это будет справедливо…
Я знаю людей и понял невысказанное: «Справедлива, наверно, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны…»
— Ты таишь про себя то, что для тебя дороже юности, прекрасного тела, сияющих глаз, — продолжал я. — Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрёшь.
Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа.
— Может, вы и правы, государь…
Я чувствовал, моя правота существует для неё только в царстве слов, где она не умеет защититься.
— Итак, ты покоряешься.
— Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить…
Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобой. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распахивает ветер слов.
— Я не умею говорить, государь, и покоряюсь…
Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остаётся неизменным, как мидель-шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде я определяю и его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача.
Долго и пристально смотрел я на неё.
— Кто выковал тебя? Ты откуда? — спросил я.
Она улыбнулась и не ответила.
— Станцуй.
И она начала танцевать.
Необычаен был её танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама.
Ты смотрел на реку с вершины горы? Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через неё, река её огибает, извивается по равнине, следуя понижениям почвы, медлит в излучинах, потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая её к морю. Вот задремала, разлившись озером, и вновь торопливо устремилась вперёд, разрезав равнину, будто клинок.
И танцовщица считалась с силовыми линиями, и это мне больше всего понравилось, она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром, то скользит с лёгкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу карабкаясь вверх. Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной. И как радовалась преодолению. И то, что смерть оборвала её танец. Мне понравилось, что она торила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные. Что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное. Что она сопротивлялась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она, плавно кружась, текла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева, оно не свободно, занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка.
Танец — судьба, танец — жизненный путь. Я хочу понять, каков ты и к чему стремишься, только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь, тебе нужно на другую сторону, ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую, соперник встал на дороге, и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился, — паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра.
Для танца необходим противник, но какой противник удостоит тебя танцем клинка, если ты — пустое место?
Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце моё защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый, — это не маска, это крышка пустой коробки. Ты — пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранительницу наследия многих поколений. Увидел прочность семечка, которое устоит и перед палачом, — нет жернова, который выжал бы из него масло тайны. Оно — залог, и во имя него идут на смерть, благодаря ему умеют танцевать. Упражняя душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и становишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймёшь, что для него главное и как он станцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она — необитаемая пустошь? Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится о камни, где знойное лето иссушает ниву, где человек противостоит варварству, где варварски уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец — это борьба в ночи с ангелом. Танец — и война, и совращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождёшься от раскормленной скотины в хлеве?
LXXI
Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают видеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатились вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит: хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится мусорницей для вещей.
LXXII
Мой отец говорил:
— Созидать — вот главное. Если в тебе мощь созидателя, не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать — значит создавать жизнеспособное, в творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принёс любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков.
Не выдумывай вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его, где культуру будет нарабатывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки ваятеля или музыка. Выводи как можно отчётливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом, заглушай пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг, которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, — пой и пой и не заботься о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдутся толкователи и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит, потечёт вода, а река установит свой порядок, и правда твоя восторжествует.