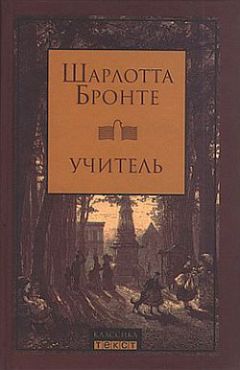Шарлотта Бронте - Джейн Эйр
После этого отступления он вернулся к теме:
– Я остался на балконе. «Без сомнения, они поднимутся в ее будуар, – подумал я. – Надо устроить засаду». И протянув руку в открытую дверь, я задернул портьеру, но оставил узкий просвет, чтобы следить за происходящим в комнате. Затем я притворил дверь так, чтобы в щелку на балкон мог доноситься шепот влюбленных. Едва я вернулся в свое кресло, как они вошли. Я не спускал глаз с просвета. Следом за ними вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила ее на столик и удалилась. Теперь они были хорошо видны. Мантилья и плащ были сброшены, и моим глазам явилась мадемуазель Варанс, блистая атласом и брильянтами (подаренными мною, разумеется), а с ней и ее кавалер в офицерском мундире. Я узнал некоего виконта, молодого вертопраха, безмозглого и порочного, которого иногда встречал в свете и которого мне в голову бы не пришло возненавидеть, так глубоко я его презирал. И в этот миг ядовитые клыки змеи – то есть ревности – сломались, так как моя любовь к Селине тотчас угасла. Женщина, способная изменить мне с таким соперником, не стоила соперничества, а заслуживала лишь презрения – впрочем, пожалуй, меньшего, чем я, глупец, попавший на ее крючок.
Они заговорили, и их беседа окончательно меня излечила: такие бессмысленные фривольности, такие свидетельства бессердечности и корыстолюбия, какими она была полна, могли вызвать у слушателя лишь скуку, а не гнев. На столе лежала моя визитная карточка, и, заметив ее, они заговорили обо мне. Ни у нее, ни у него не хватало живости и остроумия, чтобы отделать меня на все корки. Они поносили меня с мелочной грубостью, и особенно Селина. Она даже достигла некоторого блеска, прохаживаясь по адресу моих физических недостатков – уродств, как она их именовала. А ведь у нее было обыкновение пылко восхищаться тем, что она назвала моей «beauté mâle».[29] Этим она диаметрально отличается от вас: ведь вы во втором нашем разговоре без обиняков сообщили мне, что не считаете меня красавцем. И меня поразил такой контраст…
К нам снова подбежала Адель.
– Monsieur, сейчас приходил Джон и сказал, что пришел ваш управляющий и хочет вас видеть.
– А! Ну, в таком случае мне придется быть кратким. Я распахнул дверь, вышел к ним, освободил Селину от моего покровительства, предупредил, чтобы она немедленно покинула особняк, бросил ей кошелек для оплаты неотложных расходов, пропустил мимо ушей вопли, истерику, мольбы, оправдания, не заметил конвульсий и условился с виконтом о встрече в Булонском лесу. Где наутро имел удовольствие встать с ним к барьеру, оставил пулю в его хилом плече, слабом, точно цыплячье крылышко, и решил, что покончил с ними обоими навсегда. Но, к несчастью, мадемуазель Варанс через шесть месяцев подарила мне эту fillette,[30] Адель, клянясь, будто она моя дочь, что, впрочем, возможно, хотя я не замечаю в ней никаких черт, унаследованных от столь безобразного родителя. Лоцман куда больше похож на меня, чем она. Через несколько лет после того, как я порвал с ее матерью, та бросила дочку и уехала в Италию с каким-то музыкантом или певцом. Я не признал за Аделью никаких прав на мою поддержку, как не признаю их и теперь, так как я не ее отец, однако, узнав, что она брошена на произвол судьбы, я извлек бедняжку из зловонной грязи Парижа и пересадил в чистую и здоровую почву английского загородного сада, то есть сюда. Миссис Фэрфакс нашла вас, чтобы вы взращивали это растеньице. Однако теперь, когда вы знаете, что она – незаконнорожденный росток французской оперной певички, ваше отношение к вашим обязанностям и вашей протеже может измениться. И в один прекрасный день вы предупредите меня, что подыскали новое место, так не найду ли я новую гувернантку и прочая, и прочая, э?
– Нет. Адель ведь не отвечает ни за грехи своей матери, ни за ваши. Я привязалась к ней, а теперь, когда узнала, что она, в сущности, сирота, покинутая матерью и не признанная вами, сэр, она станет мне дороже. Как я могу предпочесть избалованную любимицу богатых родителей, которая возненавидит свою гувернантку, как досадную помеху, одинокой сиротке, ищущей в ней друга и опору?
– А, так вот как вы на это смотрите! Ну, я должен идти. Да и вам не мешает вернуться в дом, уже темнеет.
Однако я задержалась на несколько минут с Аделью и Лоцманом – побегала с ней наперегонки, поперекидывалась воланом. Когда мы вернулись в дом, я сняла с нее шляпку и пелерину, посадила к себе на колени и час позволила ей болтать, сколько душе угодно. И даже не выговаривала за те вольности и пошлости, которые порой вырывались у нее, если она оказывалась в центре внимания, выдавая в ней пустенькое легкомыслие, вероятно, унаследованное от матери и чуждое английским натурам. Впрочем, она обладала своими достоинствами, и я была склонна ценить все лучшее в ней как можно выше. Я старалась найти в ее наружности и манерах хоть какое-то сходство с мистером Рочестером, но не обнаружила ни малейшего: ни единая черточка, ничего в выражении лица не говорило о родстве. Мне было жаль: если бы в ней нашлось сходство с ним, он начал бы относиться к ней лучше.
Только поднявшись к себе в комнату, я наконец подробно обдумала все, что услышала от мистера Рочестера. Как он и сказал, в самой истории о страсти богатого англичанина к французской танцовщице и ее измене ему ничего особенного не было – несомненно, для высшего света такое было в обычае. Однако решительно странным был взрыв чувств, внезапно нахлынувших на него, когда он заговорил о своем новом безмятежном настроении и воскресшем интересе к старому дому и поместью. Я долго ломала голову над этой вспышкой, но затем сочла ее необъяснимой и задумалась над отношением мистера Рочестера ко мне. Доверие, которое он счел возможным оказать мне, казалось данью моей сдержанности – именно так я истолковала и приняла его признания. В своем поведении со мной в последние недели он стал более ровным, чем был вначале. Я словно бы перестала казаться ему досадной помехой, и, случайно встречаясь со мной, он не только не обдавал меня надменным холодом, но, казалось, был рад такой встрече: у него всегда находилось для меня слово-другое, а порой и улыбка. Когда же я по его приглашению являлась в гостиную, то чувствовала себя польщенной сердечностью приема, внушавшей мне мысль, что я и правда умею развлекать его и что эти вечерние беседы ведутся столько же для его удовольствия, сколько из любезности ко мне.
Правда, сама я говорила относительно мало, зато его слушала с огромным удовольствием. Общительность была в его натуре, и ему нравилось набрасывать сознанию, не знакомому с миром, картины этого мира, приобщать к нравам и обычаям (и отнюдь не к картинам порока или дурным нравам, но ко всему тому, что было интересно своим величием, своей особой новизной). И я с восторгом слушала объяснение новых идей, к которым он меня приобщал, с восторгом воображала новые дали, которые он распахивал передо мной, и следовала за ним в новые области мысли, которые он открывал мне. И ни единого раза меня не задел, не испугал хоть какой-нибудь темный намек.
Его непринужденность рассеяла мою болезненную застенчивость, дружеская откровенность, столь же корректная, как и сердечная, с какой он обходился со мной, притягивала меня к нему. По временам он казался моим родственником, а не патроном. О да, случалось, он проявлял прежнюю властность, но меня это не задевало: просто такая у него привычка, думалось мне. Я была так счастлива, так довольна новым интересом, появившимся в моей жизни, что перестала скорбеть о своем одиночестве. Узкий серп моей судьбы словно становился все шире, пробелы в жизни заполнялись, мое здоровье окрепло, я пополнела, набиралась сил.
И оставался ли мистер Рочестер теперь уродливым в моих глазах? О нет, читатель! Благодарность и множество связанных с ним приятных и радостных минут сделали его лицо прекрасным для меня, его присутствие в комнате грело больше самого яркого огня в камине. Притом я не забывала про его недостатки – да и как бы я могла о них забыть, если так часто сталкивалась с ними? Он был горд, сардоничен, придирчив к тем, кто был ниже его в любом отношении. В глубине души я сознавала, что его великая доброта ко мне уравновешивалась незаслуженной строгостью со многими другими. И он бывал необъяснимо мрачен. Не раз и не два, входя в библиотеку, куда меня звали читать ему, я заставала его там одного, и он сидел, уронив голову на руки, а когда поднимал ее, лицо у него хмурилось угрюмо, почти злобно. Но я верила, что его мрачность, суровость и былые отступления от морали («былые» потому, что теперь он, казалось, преодолел свои слабости) были порождены каким-то жестоким поворотом судьбы. Я верила, что природа предназначила его быть человеком с лучшими наклонностями, более высокими принципами и благородными вкусами, чем его сделали обстоятельства, а также воздействие воспитания и ударов, наносимых жизнью. Я считала, что он обладает замечательными задатками, хотя пока они оставались подавленными и заглохшими. Не отрицаю, я скорбела о его скорби, чем бы она ни вызывалась, и многое дала бы, лишь бы облегчить ее.
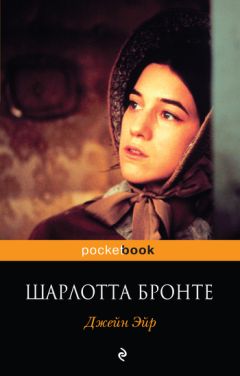
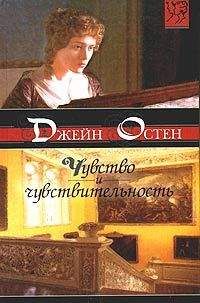
![Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]](/uploads/posts/books/136075/136075.jpg)