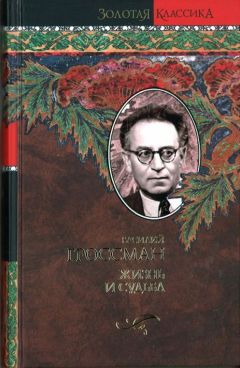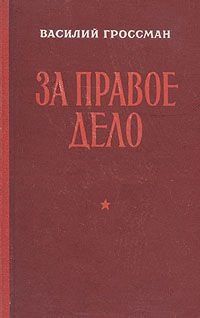Василий Гроссман - Жизнь и судьба
Бархатов, как всегда, ничего не делал, и заставить его работать нельзя было. Он, приходя на склад, занимался лишь вопросами питания, и сегодня он с утра варил в котелке суп из картофеля и капустных листьев. На минуту забежал к Бархатову профессор латыни из Харьковского фармацевтического института — посыльный при первой части, и дрожащими красными пальцами высыпал на стол немного грязного пшена. Бархатов за какие-то дела брал с него калым.
Днем Абарчука вызвали в финчасть — в отчете не сходились цифры. Зам. нач. финчасти кричал на него, грозился написать рапорт начальнику. От этих угроз Абарчуку стало тошно. Один, без помощника, он не справлялся с работой, а пожаловаться на Бархатова он не смел. Он устал, боялся потерять работу кладовщика, попасть опять в шахту или на лесоповал. Он уж поседел, сил стало мало… Вот, наверное, и от этого охватила его тоска — жизнь ушла под сибирский лед.
Когда он вернулся из финчасти, Бархатов спал, подложив под голову валенки, видимо, принесенные ему кем-то из уголовников; рядом с его головой стоял пустой котелок, к щеке прилипло трофейное пшено.
Абарчук знал, что Бархатов иногда уносит со склада инструменты, возможно, валенки появились в результате обменных операций со складским имуществом. А когда Абарчук однажды, недосчитавшись трех напильников, сказал: «Как не стыдно во время Отечественной войны воровать дефицитный металл», — Бархатов ему ответил: «Ты, вошь, молчи. А то знаешь!»
Абарчук не смел прямо будить Бархатова и стал греметь, перекладывать ленточные пилы, кашлять, уронил на пол молоток. Бархатов проснулся, спокойными, недовольными глазами следил за ним.
Потом он негромко сказал:
— Малый со вчерашнего эшелона рассказывал, — есть лагеря хуже Озерных. Зека в кандалах, полчерепа побритые. Фамилий нет, одни номера понашиты на груди, на коленях, а на спине бубновый туз.
— Брехня, — сказал Абарчук.
Бархатов мечтательно сказал:
— Надо бы всех фашистов политических туда собрать, а тебя, падло, первым, чтобы не будил меня.
— Простите, гражданин Бархатов, я нарушил ваш покой, — сказал Абарчук.
Он очень боялся Бархатова, но иногда не мог справиться со своим раздражением.
В час смены на склад зашел черный от угольной пыли Неумолимов.
— Ну как соревнование? — спросил Абарчук. — Включается народ?
— Разворачиваем. Уголек-то на военные нужды идет, — это все понимают. Плакаты сегодня из КВЧ принесли: поможем Родине ударным трудом.
Абарчук вздохнул, сказал:
— Знаешь, надо написать труд о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая, которая не душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.
Неумолимов грустно улыбнулся, но зубы его не блеснули белизной, они у него были порченые, сливались по цвету с углем.
Бархатов подошел к ним, и Абарчук, оглянувшись, сказал:
— Всегда ты так бесшумно ходишь, я вздрагиваю даже: вдруг уж ты рядом.
Бархатов, человек без улыбки, озабоченно проговорил:
— Я схожу на продсклад, не возражаешь?
Он ушел, и Абарчук сказал своему другу:
— Вспомнил ночью сына от первой жены. Он, наверное, на фронт пошел.
Он наклонился к Неумолимову.
— Мне хочется, чтобы парень вырос хорошим коммунистом. Я вот думал, встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца — случай, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!
— Он твою фамилию имеет?
— Нет, — ответил Абарчук, — я считал, что из него вырастет мещанин.
Накануне вечером и ночью он думал о Людмиле, ему хотелось видеть ее. Он искал обрывки московских газет, вдруг прочтет: «лейтенант Анатолий Абарчук». И ему станет ясно, что сын захотел носить фамилию отца.
Впервые в жизни ему захотелось жалости к себе, и он представлял, как подойдет к сыну, дыхание прервется, и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить».
Толя обнимет его, и он положит голову сыну на грудь и заплачет, без стыда, горько, горько. И они так будут долго стоять, сын выше его на голову…
Сын постоянно думал об отце. Он разыскал товарищей отца, узнал, как отец участвовал в боях за революцию. Толя скажет: «Папа, папа, ты совсем белый стал, какая у тебя худая, морщинистая шея… Все эти годы ты боролся, ты вел великую, одинокую борьбу».
Во время следствия его кормили три дня соленым и не давали воды, били.
Он понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о диверсиях и о шпионаже, и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное было в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов и стоит добиться встречи с начальником отдела — и бандит-следователь будет схвачен.
Но шло время, и он увидел, что дело не только в нескольких садистах.
Он узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного трюма. Он видел, как уголовные проигрывали в карты не только чужие вещи, но и чужую жизнь. Он видел жалкий разврат, предательство. Он видел уголовную Индию, истеричную, кровавую, мстительную, суеверную, невероятно жестокую. Он видел страшные побоища между «суками» — работающими и «ворами» — ортодоксами, отказывающимися от работы.
Он говорил: «Зря не сажают», считал, что посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело, — меч правосудия покарал врагов революции.
Он видел угодливость, вероломство, покорность, жестокость… Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулачье, буржуазные националисты.
Его вера была непоколебима, его преданность партии — беспредельна…
Неумолимов, собираясь уходить со склада, неожиданно сказал:
— Да, забыл, ведь тебя тут один спрашивал.
— Это где же?
— Со вчерашнего эшелона. Их на работу распределяли. Один тебя спросил. Я говорю: «Случайно знаю, я с ним случайно четвертый год рядом на нарах сплю». Он мне назвался, но фамилия вылетела из головы.
— А он какой по виду? — спросил Абарчук.
— Да знаешь, плюгавенький, шрам на виске.
— Ох! — вскрикнул Абарчук. — Неужели Магар?
— Во-во.
— Да это же мой старший товарищ, учитель мой, он меня в партию ввел! О чем он спрашивал? Что говорил?
— Обычное спрашивал, — какой у тебя срок? Я сказал: просил пять, получил десять. Теперь, говорю, кашлять стал, освободится досрочно.
Абарчук, не слушая Неумолимова, повторял:
— Магар, Магар… Он работал одно время в ВЧК… Это был особый человек, знаешь, особый. Все товарищу отдаст, шинель зимой с себя снимет, последний кусок хлеба товарищу отдаст. А умен, образованный. И чистых пролетарских кровей, сын керченского рыбака.
Он оглянулся и наклонился к Неумолимову.
— Помнишь, мы говорили, коммунисты в лагере должны создать организацию, помогать партии, а Абрашка Рубин спросил: «Кого же в секретари?» Вот его.
— А я за тебя голосну, — сказал Неумолимов, — я его не знаю. Где найдешь его, — десять машин с людьми пошли на лагпункты, наверное, и он поехал.
— Ничего, найдем, ах, Магар, Магар. Значит, спрашивал обо мне?
Неумолимов сказал:
— Чуть не забыл, зачем к тебе шел. Дай мне бумаги чистой. Вот память стала.
— Письмо?
— Нет, заявление Семе Буденному. На фронт буду проситься.
— Не пустят.
— Меня Сема помнит.
— Политических в армию не берут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы спасибо скажут, там и твоя доля будет.
— Я в войска хочу.
— Тут Буденный не поможет. Я Сталину писал.
— Не поможет? Шутишь, — Буденный! Иль тебе бумаги жалко? Я бы не стал просить, но мне в КВЧ бумаги не дают. Я свою норму использовал.
— Ладно, дам листик, — сказал Абарчук.
У него имелось немного бумаги, за которую он не должен был отчитываться. А в КВЧ бумагу давали счетом, и надо было потом показывать, на что использована она.
Вечером в бараке шла обычная жизнь.
Старый кавалергард Тунгусов, моргая глазами, рассказывал бесконечную историю-роман: уголовные внимательно слушали, почесываясь, и одобрительно покачивали головами. Тунгусов плел путаную, замысловатую баланду, всаживая в нее имена знакомых балерин, знаменитого Лоуренса, описания дворцов, события из жизни трех мушкетеров, плавание жюль-верновского Наутилуса.
— Постой, постой, — сказал один из слушателей, — как же она перешла границу Персии, ты вчера говорил — ее легавые отравили?
Тунгусов помолчал, кротко посмотрел на критика, потом бойко проговорил:
— Положение Надин лишь казалось безнадежным. Усилия тибетского врача, влившего в ее полуоткрытые губы несколько капель драгоценного отвара, добытого из синих высокогорных трав, вернули ей жизнь. К утру она настолько оправилась, что могла передвигаться по комнате без посторонней помощи. Силы возвращались к ней.