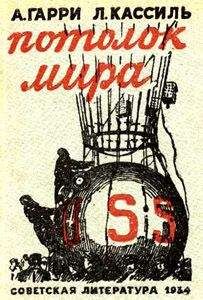Камиль Лемонье - Конец буржуа
Из-под копны золотистых волос ему улыбалось ее светившееся восторгом, совсем еще детское личико. Ом многозначительно посмотрел ей в глаза. Она поняла этот взгляд и не без кокетства стала разыгрывать из себя скромницу:
— Ну, я самая обыкновенная любительница музыки… На рояле я играю совсем плохо, я умею только восхищаться другими.
Депюжоль весь просиял. Он рассмеялся, и она увидала его мощную челюсть, его совершенно квадратные, крупные как у лошади зубы цвета слоновой кости.
— Перестаньте, вы клевещете на самое себя… Говорить о музыке с таким чувством может только тот, кто сам творит.
Эти слова польстили ее тщеславию меломанки. Она покачала головой, поглядела на него мечтательно и томно и сказала:
— Уверяю вас… Хотя, впрочем, иногда мне кажется, что я могла бы что-то создать сама. Как жаль, что мне не пришлось как следует заниматься музыкой. Но знаете, люди нашего круга бывают так поглощены заботами будничной жизни… Не хватает времени даже на то, чтобы слушать… А теперь уже все равно поздно, приходится играть так, как можешь.
Мимо них под руку с Акаром-старшим проходила Сара. Пряди иссиня-черных волос еще больше оттеняли мертвенность ее лица, обнаженные плечи ее ослепительно сверкали, сверкали и бриллианты у нее в ушах и на шее. Нервным движением она закрыла веер из гагачьих перьев и кончиком его тихонько хлопнула Депюжоля по плечу.
— Не верьте, она скромничает, у нее есть настоящий талант, — сказала она с веселой улыбкой, но глаза ее были мрачны.
Она только что заметила, что г-жа Флеше обменялась с Эдоксом странным, загадочным взглядом. Казалось, что нити какого-то грозного заговора протянулись над пестрою толпой гостей, где черные фраки перемежались с яркими красками дамских платьев.
Красавица с лебединой шеей проследовала дальше. Депюжоль вернулся к своему амплуа начинающего провинциального актера.
— Видите, как я вас поймал! — громко воскликнул он, и в голосе его уже слышалась фамильярность.
— Что же делать, если все сговорились против меня!
Сириль обмахивалась веером. Движения ее были отрывисты и нервны. Она смеялась и в то же время как будто сердилась, что ей помешали играть ее роль скромницы, выдали ее тайну. Подошел Леон. Она представила мужчин друг другу и сказала мужу:
— Пригласи господина Депюжоля попеть на наших музыкальных вечерах.
Певец поблагодарил.
— Когда позволите?
— У нас собираются всегда по субботам.
В то время как она говорила, глаза их встретились. Искусство стало их тайной сводней: казалось, они были уже готовы отдаться друг другу. Она протянула ему руку, он пожал ее своей крупной, мужественной рукой. Потом они еще раз столкнулись в буфете и обменялись улыбкой.
«Занятная штучка», — подумал баритон. Сириль погрузилась в мысли о том, какое это счастье любить знаменитого, признанного всеми артиста.
Кадраны и Пьебефы, которые получили приглашение, так же как и все остальные родственники, сообщили, что приехать не могут. Ребенок Пьебефов, последняя надежда их семьи, медленно умирал. Собранным на консилиум врачам оставалось только подтвердить, что конец уже близок. Аделаида и Вильгельмина вместе с родителями дежурили у постели больного, поэтому на вечер к Эдоксу поехали только их мужья.
И вдруг, около часу ночи, когда гости уже начинали спускаться вниз и на улице послышался стук колес, разнеслась печальная весть. Присланный Пьебефом лакей привез записку от Кадранов, в которой сообщалось о смерти младенца. Жан-Элуа сейчас же вызвал свою карету. Жан-Оноре поехал вместе с братом. Им обоим был в тягость исход этого вечера, превращавшегося теперь для них в отбытие повинности. И сейчас от усталости и раздражения их клонило ко сну. К тому же этого следовало ожидать. Кровь Пьебефов была обречена на бесплодие: напрасно только они каждый раз на что-то надеялись — они заведомо готовили себе новое горе. Потом, после того как братья немного успокоились, мысли их вернулись к впечатлениям этого вечера, и они стали говорить о том, что великий Сикст, который так не любил бывать в свете, откликнулся на их приглашение и даже сказал несколько любезных слов по адресу Рассанфоссов. Все это свидетельствовало о том, что престиж их семьи растет. Теперь уже не приходилось сомневаться, что Эдокс будет избран.
А раз так, то впереди открывались огромные возможности, вплоть до министерского портфеля… Рассанфоссы постепенно приходили к окончательному утверждению своего суверенитета. Они становились правой рукой Исполнительной власти. Круг, по-видимому, завершился. И Жану-Элуа больше уже не мерещились глубины шахты, темной могилы его предков, он думал только о той головокружительной быстроте, с которой они поднимались к высотам могущества. Но вслед за тем явилось сожаление: младшая ветвь опередила старшую, счастье досталось не ему, а Жану-Оноре, через его сына, единственного из Рассанфоссов, который все выше и выше поднимался по общественной лестнице, в то время как его собственные сыновья потеряли уже всякий интерес к судьбам их рода. Он воскликнул:
— Как, однако, тебе везет! Ведь это я начал воздвигать наше здание. А теперь достраиваешь его ты.
Наконец карета остановилась у дома Пьебефов. Они вошли туда. Здесь всюду царило горе. Кадраны вышли им навстречу, г-жа Кадран едва сдерживала рыдания. Смерть ребенка ее потрясла — это означало, что благополучию их семьи настал конец. Они прошли в детскую и там увидели Пьебефа; совершенно отупевший, с помутившимися, ничего не выражавшими глазами, он не отходил от колыбели, озаренной колеблющимся пламенем свеч. Сибиллу увели. Аделаида и Вильгельмина оставались с ней в ее комнате.
Отец сидел совершенно неподвижно, глядя на жалкое тельце сына, еле видное из-под покрывавших его кружев. Одутловатое лицо Пьебефа превратилось в какую-то бесформенную, вязкую массу, и казалось, что вот-вот оно расползется. Он знаком показал им на зеленоватое и совершенно высохшее личико ребенка, на его крохотные, застывшие словно желатин глазки, глубоко запавшие в темно-коричневых глазницах.
— Я отдал бы сто, двести тысяч франков, только бы он был жив. Кому теперь достанется все мое состояние? И обиднее всего думать, что в то время как мой собственный сын лежит здесь мертвый, сотни грязных оборванных шалопаев копошатся в моем квартале!
С такою же злобой он вспоминал и о ребенке Гислены, который появился на свет даже раньше срока, в то время как они с Сибиллой, словно поденные рабочие, трудились над виноградником, который так и не дал плодов. Потом он схватился обеими руками за голову и зарыдал как дитя. Братья Рассанфоссы почувствовали отвратительный запах, исходивший из колыбели. Это был тот самый тяжелый, смрадный запах тления и гнили, который окружал заживо разлагавшееся тело деда ребенка, старика Пьебефа.
Они стали расспрашивать окружающих. Оказалось, что ребенок уже в течение целого месяца ничего не мог есть: желудочек его сморщился, ослаб и перестал переваривать пищу, всякая еда вызывала рвоту. Самым уязвимым в его крохотном организме оказался как раз тот орган, который у всех Кадранов был чем-то вроде мощной машины, способной перемолоть камни. Какая-то злая ирония судьбы заставила умереть голодною смертью нищих этого наследника миллионов, этого отпрыска разжиревших, наевшихся до отвала людей, это маленькое существо, зубы которого, если бы им суждено было вырасти, сожрали бы живьем тысячи таких, как он. В их откормленной, как на убой, семье, рядом с полнокровием ожиревшего Антонена, появилось на свет это слабенькое существо, которое было не в состоянии принимать даже самую скудную пищу. Вот что больше всего огорчало и злило Пьебефа: он ведь имел возможность кормить своего малютку по-царски, состояние их позволяло сделать из него прожорливого людоеда. Он предоставил бы в его распоряжение все: земли, дома, человеческие стада. А между тем ребенок погиб именно оттого, что его желудок не в силах был переварить ни одной капельки молока. Теперь все кончено, надеяться больше не на что.
Когда Жан-Элуа спустился вниз, Аделаида уже ждала, закутанная в меха. Слуга нанял фиакр для Жана-Оноре, и адвокат с женой уехали в нем. Братья простились. Дверь захлопнулась, и карета покатила среди ночной тьмы.
Жан-Элуа думал о сыне Гислены. Если бы смерть, вместо того чтобы заглянуть в дом Пьебефов, завернула бы в Распелот, он, во всяком случае, не пожалел бы об этом. А она, как назло, унесла полноправного наследника и оставила в живых этого незаконнорожденного, опозорившего их доброе имя.
— Жан-Элуа! — сказала Аделаида.
— Что?
— Ты помнишь пророчество бедняжки Симоны? Смотри, оно ведь исполнилось! Какой это ужас!
Он пожал плечами.
— И ты этому веришь?
— Верить тут не приходится… Это все Так и есть. Она что-то чувствует, чего не чувствуем мы. Ах, нас ждут еще новые беды. Свечи, гробы… Весь дом наполнится гробами!