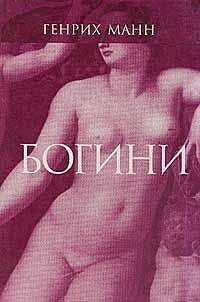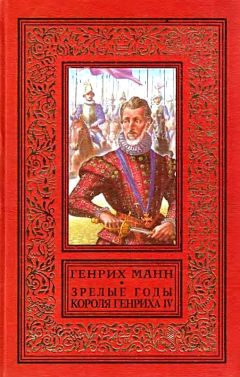Генрих Манн - Минерва
— Что-нибудь веселое! — воскликнули остальные.
Зибелинд сказал:
— О, я приготовил кое-что очень веселое. Безобидно веселое. Прошу вас, господа, потерпите две минуты. — И он поспешно удалился.
Якобус спросил герцогиню:
— Где слепые?
Она вышла на террасу, чтобы показать их ему. Очутившись с ней наедине, он сейчас же спросил:
— Когда вы выезжаете на дачу, герцогиня?
— Скоро. В вилле производился ремонт… Вы так торопитесь?
— Я тороплюсь приступить к своей картине, вы знаете, к какой. Прежде чем листья пожелтеют, вы мне будете нужны для нескольких сеансов на воздухе.
— Это вы недурно придумали.
— Так как при этом вы будете без платья, то должно быть тепло.
— Милый друг, вы страдаете навязчивой идеей. К счастью, она безобидна. Поэтому и не спорю с вами.
— Герцогиня, вы прекрасно знаете, что должны удовлетворить меня. Иначе погибнет многое.
— И вы уверены, что это так важно для меня?
Они тихо и быстро бросали слова. Вдруг они замолчали, оба испуганные. Слепые нежно играли какой-то танец. Герцогиня улыбнулась.
— Вы художник. Ваше тщеславие заставляет вас относиться к своему занятию чересчур серьезно.
— Вы называете это занятием? Но для вас самой, герцогиня, — с силой воскликнул он, — это было богослужением, которое наполнило лучшие годы вашей жизни. Вспомните же, чем вы обязаны искусству!
— И вам?
— Конечно, Было бы неблагодарностью, недостойным поступком, если бы вы не услышали меня!
— Вы мальчик, стремительный и себялюбивый и неспособный признать, что мир не вертится вокруг вас. Вам везло во всем; теперь вы искренне возмущены, что один раз вам что-то не дается. Я прощаю вам вашу невинность и неопытность.
— Вы обязаны…
— Ни вам, ни искусству. У меня нет никаких обязанностей. Когда искусство надоест мне, я пойду своим путем.
Она оставила его и вернулась в комнату. Все глаза были устремлены на даму, которая вошла с другой стороны.
— Господин фон Зибелинд?
— Madame Бланш де Кокелико, — ответил его голос. Гостья, прихрамывая, мужскими шагами прошла на середину зала. У нее были красновато-желтые волосы и жирная, бледная кожа; под спадающим неподвижными складками черным шелковым платьем чувствовался костлявый остов, полный развращенной гибкости.
Мортейль засмеялся, ему было противно, но этот маскарад щекотал его нервы.
— Браво, Зибелинд, это в самом деле Кокелико. Я очень хорошо знал ее.
— Я тоже, — презрительно сказал Якобус.
— Ну, да, кто же не знает меня? — объявил Зибелинд по-французски. Французские слова легко слетели с его уст.
— Право, это она, — сказал окаменевший Сан-Бакко. — При разговоре узнаешь ее. Я раз ужинал с ней. Несчастный Павиц тоже был при этом. Она самым бесстыдным образом издевалась над ним.
Якобус сказал Нино:
— Посмотри-ка на эту фигуру. Все, понимаешь, решительно все в ней фальшиво. Когда она вечером ложится в постель, от нее не остается ничего, кроме маленького остова, как у селедки.
Мальчика охватил испуг. Представление о голове с серебристо-серым студенистым хвостом, одиноко лежащей на огромной подушке, поразило его. Бланш исполняла какой-то номер, нечто безобидно веселое.
— Шея! — содрогаясь, прошептала Джина. Певица поворачивала во все стороны шею, жилистую и покрытую таким толстым слоем пудры, что, казалось, на нее наложена была гипсовая повязка. Рот зиял, как широкая кровавая рана. Узкие, изогнутые угольные штрихи над ее глазами поднимались кверху; она стояла, опустив книзу руки, так неподвижно, что не заметно было даже дыхания, и бойко, тусклым и хриплым голосом, пела о своих неутолимых желаниях. Дворников, конюхов с запахом самца и навоза, мясников, живодеров, палачей с запахом крови и самца, — вот что она любит. В заключение она сделала два-три усталых, непристойных движения: великая, отрезвившаяся и уже наполовину ушедшая в частную жизнь развратница давала новичкам беглое указание. Мужчины захлопали. Беттина глупо хихикала.
— Это настоящее искусство! — объявил Мортейль, искренне восхищенный. Герцогиня устремила взор на Палладу; ей было не по себе. Затем она спросила себя, пожимая плечами:
«Неужели я суеверна?.. Он говорит о богослужении, которое наполнило лучшие годы моей жизни. Но ведь это была только игра. Что ж, если она надоела мне. Я окружила себя декорациями и символами: Паллада, ее храм, в котором я славила ее, зал, который я воздвигла для нее, души в мраморе, статуи — мои подруги, та женщина на террасе с ее белой угрозой — все это гнетет меня и вызывает во мне скуку. Я отодвигаю их в сторону, будто они сделаны из папки. Я хочу опять быть свободной, совершенно свободной, искать новую страну и жить на неведомый лад».
Она воскликнула:
— Какая удачная шутка, господин фон Зибелинд. Вы так внезапно открываете нам свои таланты!
— Счастье, герцогиня! Счастье вызывает наружу все хорошее, что есть в нас.
Он был растроган, и чувство, прорывавшееся сквозь застывшую в холодной непристойности маску, возбуждало ужас, как нечто противоестественное. Он сидел в прямом кресле, заложив ногу за ногу, положив руки на ручки кресла, и предоставлял любоваться собой.
— Я сознаюсь, что всегда страшно гордился своим сходством с Кокелико. Вы, вероятно, давно заметили его.
— Сходство со старой бабой! — оскорбительным тоном заметил Якобус.
— Почему нет? — мягко и самодовольно ответил Зибелинд. — Мне понадобилось только немного румян.
Мортейль нагло заметил:
— Так как вы уже и раньше были совершенно покрыты ими.
— Второй номер! — прокричал Зибелинд, поднимаясь. С воды донеслись звуки польки. Он спел несколько тактов, оборвал и сказал:
— Лели Олимпия не может больше заставлять нас ждать… видите, вот и она.
Он довел строфу до конца, не спуская с возлюбленной своего обольстительного взгляда кокотки.
— Миледи, найду ли я у вас одобрение? Бланш де Кокелико поет в честь вас, миледи… Твоя гондола здесь, дорогая? — тихо и взволнованно спросил он. Она сердито ответила:
— Что за наглость! Кто эта неприличная фигура?
— Я Готфрид, — шепнул он. — Но, однако, моя маска должна быть хороша!
— Я не знаю никакого Готфрида — или, если и знаю, то очень мало. И у меня нет никакого желания возобновлять это знакомство.
— Какая остроумная шутка, миледи!
Он подпрыгнул на одной ноге.
— Вы, по-видимому, в удивительно веселом настроении. Неужели я причиной этого? Мне очень жаль. Вы возбудили мое любопытство тем, что говорили так горько и так глубокомысленно. Можно было испугаться; не все даже было понятно. В вашем глупом счастье я нахожу вас просто unfair.
Он засмеялся и подмигнул.
— Ведь я Бланш де Кокелико, очень худая женщина, а вы — очень полная. Вы, конечно, слышали об искусстве, которым знаменита Бланш? Лишь теперь мы будем любить друг друга, миледи.
— Я сейчас потребую, чтобы вам указали дверь, — сказала она, смерив его взглядом через плечо и отходя. Он вдруг начал дрожать с головы до ног, но смеялся таким же порочным смехом, как прежде.
— Значит, сегодня вы не возьмете меня с собой? — спросил он, следуя за ней.
— Он разыгрывал из себя одинокого и страдающего, а был просто неприличным субъектом, — заметила она, возмущенная обманом.
— Время терпит, я понимаю шутки, — уверял он.
Он сделал пируэт и, заметно хромая, вернулся к обществу. Он тотчас же с хриплыми выкриками запел следующую строфу. Не успев кончить, он опять бросился к леди Олимпии.
— Но завтра наверно! — настойчиво просил он с такой судорожной улыбкой, что слой румян на его лице заметно двигался взад и вперед.
— Что это за человек, от которого никак нельзя отделаться? — спокойно и громко спросила она. Он вдруг вскинул кверху левую руку и упал навзничь с сильным треском, не сгибаясь, так что на шелковом платье не образовалось ни одной складки.
— Этим должно было кончиться, — спокойно сказала леди Олимпия.
— Конечно, это можно было предвидеть весь вечер, — объявил Мортейль, вставляя в глаз монокль. Якобус с бешенством перешагнул через тело Зибелинда.
— Это омерзительно, мы не должны были допускать этого.
— Это забавляло герцогиню, — сказал Сан-Бакко.
— И доставляло удовольствие всем нам…
Он пробормотал со стыдом, опустив голову.
— Как это вообще было возможно.
— Не правда ли, это было жутко — уже давно? — сказала Джина Беттине.
Обе женщины тихо последовали за лакеями, которые унесли Зибелинда. Один держал его за ноги, другой — за голову; они вынесли несчастного, точно длинную восковую куклу, — ловкое подражание пороку. Они положили его на кровать через три комнаты. Джина смотрела на него, содрогаясь перед женщиной, которая раздавила его. Беттина с наивным любопытством заглядывала через ее плечо.
— Жаль, — сказала она, — было так весело.
— В самом деле?
— Нет, — в сущности нет.