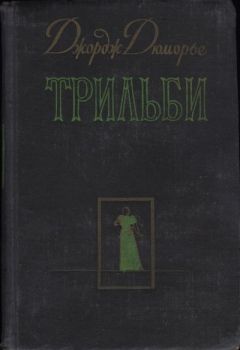Джордж Дюморье - Трильби
Таффи с Лэрдом под предводительством Маленького Билли ехали в «Мичлен-Лодж» впервые и попали на один из самых блестящих вечеров. В дверях большого концертного зала их встретили высокий представительный человек с чудесными глазами, с седой бородой, в маленькой бархатной ермолке и греческая матрона, такая величественная и красивая, так роскошно одетая, что они чуть было не распростерлись перед ней ниц, как перед какой-то сказочной владычицей Востока. По-видимому, только ее сердечное, простое и ласковое приветствие удержало их от этого.
И с кем бы вы думали они тут же повстречались? С Антони, Лорримером и Греком, которые отрастили себе бороды и усы пятилетней давности!
Но не успели они обменяться взаимными восторженными приветствиями, как раздался громкий аккорд рояля, и все стихло. Воцарилась тишина такая, что пролети муха — и ту было бы слышно. Синьор Джиулини с несравненной Аделиной Патти запели «Мизерере» из знаменитой оперы Верди к восторгу всех присутствующих, кроме нескольких отдельных лиц, которые, только что прочитав (вернее, недочитав) письма Мендельсона, смотрели на всех свысока, чувствовали полное презрение к итальянской музыке и особенно к «виртуозности» как вокальной, так и инструментальной.
Когда дуэт окончился, Маленький Билли стал называть своим друзьям фамилии самых именитых гостей, начиная от премьер-министра и ниже, кончая автором настоящей повести, которого очень обрадовала встреча с ними. Они потолковали о добром, старом времени, и он представил их дочерям хозяина и другим прелестным дамам.
Затем Рукули, знаменитый французский баритон, спел любимую песню Дюрьена:
Любви утехи длятся миг единый,
Любви страданья длятся долгий век…
Он пел негромко, но столь же восхитительно, как в памятный для наших друзей сочельник, когда во всю силу своего мощного голоса исполнял в церкви Мадлен рождественскую молитву.
Затем молодой Иоахим, первый скрипач своего времени, сыграл соло на скрипке, а после него на рояле сыграла госпожа Шуман, единственная равная ему по высокому мастерству. Их выступление не только послужило как бы вразумляющим примером для тех, кто относится к музыке легкомысленно, считая, что она является лишь приятным времяпрепровождением и дает чисто эмоциональное наслаждение, в котором не участвует разум, но, кроме того, их игра заслуженно посрамила виртуозов, которые увлекаются фортепьянной техникой до такой степени, что совершенно забывают донести до слушателя замысел композитора.
Иоахим и госпожа Шуман — оба первоклассные артисты — ни на мгновение не давали вам забыть о Себастьяне Бахе, которого исполняли с высоким совершенством. Полное растворение собственного «я» в творении композитора отличало их игру, и, если вы не любили Баха, вам безусловно пришлось поскучать!
Но если вы любили его (или притворялись, что это так), вы имели возможность слушать их, держа перед глазами партитуру. Ваша сосредоточенность, суровая неподвижность вашей позы, созерцательный взгляд и молчаливый восторг — все выражало немой укор тем, кто был настроен легкомысленно, так же как перед этим ваш скучающий и рассеянный вид доказывал тем же лицам, что фиоритуры и трели синьоры Патти и французский стиль исполнения Рукули оставляют вас совершенно равнодушными.
В зале было просторно, что очень способствовало успеху этого замечательного концерта. Гости не чувствовали себя сардинами в коробке, как это обычно бывает на музыкальных вечерах. Приглашенных было сравнительно немного, в перерывах они могли прохаживаться по залу, беседуя с друзьями, бродить по другим комнатам, рассматривая всевозможные редкости, украшавшие это жилище, или же прогуливаться в чудесном парке, озаренном луной, звездами и китайскими фонариками.
Вот где находили себе приют легкомысленные гости; в то время, как в зале исполняли Баха, они сидели в парке, болтая, смеясь и флиртуя, а те, кто были посерьезнее, медленно прохаживались по сумрачным, тенистым аллеям и укромным дорожкам, куда не долетали звуки французско-итальянского щебетания, и важно рассуждали с единомышленниками о великом Золя, Мопассане или Пьере Лоти и на изысканнейшем английском языке возмущались отсталостью английской литературы и ругали на чем свет стоит английское искусство, английскую музыку и вообще все английское.
Эти высокоинтеллектуальные, глубокомысленные люди, которые признают только классическую живопись и только музыку классиков, не считают для себя обязательным чтение классической литературы на каком бы то ни было языке. Что им Шекспир и Данте, Мольер и Гете! Они знают кое-что получше!
Надо сказать, что имена трех бессмертных французских авторов «легкой литературы» в ту пору были еще никому не известны; я назвал именно их, но не в именах дело, ведь у них были схожие с ними предшественники, фамилии которых я позабыл… В конце концов нет ничего нового под небесами, а пустить пыль в глаза можно любым способом.
Предположим, это были Фейдо или Флобер, а для тех, кто не знал французского языка и радел о чистоте нравов — мисс Остен, а кроме того, Себастьян Бах и Сандро Боттичелли — вот кем в представлении «глубокомысленных людей» исчерпывалось все искусство. Конечно, все вышеупомянутые мастера сильно отличались друг от друга, но чтобы пустить пыль в глаза, можно было назвать любого из них; если вы пели им дифирамбы и хорошо изучили (или делали вид, что это так), вы могли в те времена прослыть широко образованным человеком и чувствовать себя на равной ноге с избранниками интеллектуальных кругов Лондона, а всех, кто не мыслил одинаково с вами, причислять к обывателям.
К концу вечера в зале появился высокий, смуглый, красивый иностранец со свернутыми нотами в руках. Его приход вызвал большое оживление; со всех сторон и на всех языках слышалось без конца: «Вот Глориоли!» Прекрасные дамы, жены послов, знаменитые красавицы, все женщины вообще теснились вокруг него, осыпали его комплиментами, награждали улыбками, всячески проявляя свое восхищение. Эти «принцессы, баронессы, высокомерно равнодушные аристократки», как говорил Свенгали, в присутствии Глориоли чрезвычайно быстро утратили и свое высокомерие и свое равнодушие!
А Глориоли неторопливо взошел на эстраду, его аккомпаниатор сел за рояль. В руках у певца были ноты, но он ни разу не взглянул на них. Он смотрел на красивых женщин, строил им глазки и улыбался; и вот из его полуоткрытых влажных толстых губ, которые он, перед тем как запеть, всегда облизывал, полились такие дивные звуки, что едва ли вы когда-либо слышали подобные от женщины, мужчины или мальчика! Он умел петь высоко и низко, тихо и громко. Не только слушатели, принадлежавшие к разряду легкомысленных, были заворожены его пением, как этого от них и следовало ожидать, но даже глубокомыслящие особы, захваченные врасплох, потрясенные, ошеломленные, всячески деморализованные и низведенные до простого естества, не могли скрыть своего восторга!
И Себастьян Бах (особенно любимый всеми по-настоящему большими музыкантами, а также, увы! многими чопорными невеждами, ничего не смыслящими в музыке, не знающими ни единой ноты, ни одного мотива) был совершенно забыт! Но кто же, кто выражал самый большой восторг по поводу пения Глориоли? Двое настоящих музыкантов, исполнявших в этот вечер Баха! Ибо они по крайней мере сохраняли широту взглядов всегда и при всех обстоятельствах и любили все прекрасное искренне и до глубины души, в чем бы оно ни находило свое выражение.
Глориоли пел простенькую песенку, живую и грациозную, почти достойную слов, написанных бессмертным Мюссе. Я так люблю эти строфы, что не могу удержаться от искушения процитировать их, это доставляет мне такое удовольствие, будто я сам их сочинил:
Привет, Сюзон, цветок лесной,
Ты хороша ли, как бывало?
Гляди, вернулся я домой,
По свету побродив немало.
Я шел по всем путям земным,
Я сам любил и был любим,
Но то, что было,
Не будем вспоминать теперь, —
О друг мой милый.
Открой мне дверь!
Я помню дней весенних цвет,
Когда глаза ты опустила
И скромно мне сказала:
«Нет, моя пора не наступила!»
Увы, тогда я ждать не стал,
Ужель теперь я опоздал?
Но то, что было,
Не стоит вспоминать теперь.
О друг мой милый,
Открой мне дверь![20]
Когда выступал Глориоли, вам казалось, что в сравнении с ним все певцы в мире достойны лишь жалости.
В тот вечер больше никто не пел. Глориоли устал, а петь после него ни у кого не хватило наивности или смелости.
Возможно, кое-кто из моих читателей помнит эту певчую птицу Глориоли, промелькнувшую как метеор. Не будучи профессиональным певцом, он иногда снисходительно соглашался выступить за сотни гиней в залах великих мира сего, но он пел во много раз лучше, просто из одной любви к искусству в студиях своих друзей.