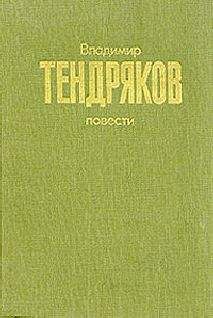Владимир Тендряков - Покушение на миражи
— Верно. Привели, — с холодной бесстрастностью согласилась Ирина. — К тому, что люди не влияют на историю. Получается: дурные сообщества возникают сами, а хорошие создать нам не дано — невлиятельны, стихии, видите ли, подчинены. Но тогда есть ли смысл, Георгий Петрович, упрекать в безнравственности нашего милого ученого сурочка? Помочь себе мы не можем, предаваться отчаянью бессмысленно, так не лучше ли принять мудрый совет предаться доступным наслаждениям, как это делали в средние века во время повальных эпидемий? К черту самоистязания, да здравствует пир во время чумы!
Прошу прощения, наши экспериментальные выводы толкают на это.
— Ну и ну! — возмутился Миша Дедушка. — Доигрались…
— Обождем пировать. Рано, — сказал я.
— Готова ждать сколько угодно. Знать бы — чего?
— Конца расследования, Ирочка. Надо же нам понять, что именно мешает людям творить доброе, нравственное.
— Предположим, поймем. И что же?
— Вот те раз! — удивился я. — Понять объективный закон — не значит ли им пользоваться? Не закон ли всемирного тяготения указал нам, как его преодолеть, вырваться из объятий планеты?
— И Миша облегченно хохотнул:
— Точно! Закон что телеграфный столб — перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.
— Гм… — Ирина украсила пепельницу новым окурком. — Что ж, подождем.
Чумной пир на время откладывается.
Толя Зыбков усиленно заворочался, заскрипел креслицем, обратил ко мне свое круглое обиженное красное лицо.
— Ладно, Георгий Петрович, кто старое помянет, тому глаз вон. Буду с вами до конца… пока не упремся в глухую стенку.
— В стенку, Толя?.. В глухую?.. Или ты забыл, что таковой не существует в природе? Вспомни-ка: «Самое непостижимое в этом мире то, что он постижим».
Толя смутился. Автор этих слов Альберт Эйнштейн свят даже для суперменов в джинсах.
5
К селу Яровому, где прошло мое детство и не успела начаться моя юность, подступали запущенные — с вырубками, болотами, мокрыми пожнями — леса.
Зимой они были густо истоптаны зайцами, и подростки, мои приятели, промышляли ими. Не ружьями, ружей не было, да и кто на зайцев тратит дробь и порох? Из балалаечной струны, а то и просто из тонкой проволоки делались петли и развешивались по лесу на заячьих тропах.
Уже в начале зимы 1941 года у нас дома было голодно, не хватало хлеба, берегли скудные запасы картошки, а сестренке исполнилось двенадцать лет, хотелось устроить ей маленький праздник. Я решил добыть зайца. И хоть этим заниматься мне как-то не приходилось, но теоретически я знал все до тонкости: петли сделал из струны, ставил их в выветренных (то есть полежавших на улице, не пахнущих человеческим жильем) рукавицах, и места выбрал ходовые, и подвесил надежно, чтоб если даже вскочат матерый самец, то уж, шалишь, не сорвется.
Прилежному — награда. Черным утром, когда снега лишь начинают натужно синеть, а в небе все еще утомленно помаргивают звезды, я спешил по немотному, окоченелому лесу к своим наставникам. И где-то на подходе к ним из мрака, из глубины смерзшегося лесного молчания раздался взрывчатый треск, словно незыблемая чащоба тронулась от толчка, начала валиться. Есть!!
Нас еще разделяла плотная толща величественных, как заснеженные горы, елей, но я уже улавливал на слух — он не похож на обычного зайца, это не робкое, а яростное существо. И набатно колотилось в груди сердце, и безумное нетерпение хищника несло меня сквозь обвалы снега, колючую хвою, жесткие ветки — к жертве, к нему! А он метался впереди в эпилептическом ужасе передо мной.
Мутная просинь, прокравшаяся сквозь чащу, и среди многоэтажной, фантастической заснеженности подпрыгивала, дергалась голая елочка, словно пыталась выдрать корни из смерзшейся земли и бежать от меня опрометью. А рядом с ней вихрящийся сгусток… Да, сгусток серого предрассветного воздуха в насквозь промороженном лесу.
Наверное, это был именно тот, о каком я и мечтал, матерый самец. Но разглядеть его я не мог, видел лишь тугое движение — бестелесная сила, мятущаяся страсть, неистовость.
Я стоял, увязнув в глубоком снегу, не смел дышать, колотилось в грудную клетку сердце. Но мало-помалу, как мороз сквозь рукава шубы, стала проникать отрезвляющая мысль: «Он сможет прыгать в петле весь день, даже больше… Бывает, живут и по трое суток. Ты долго собираешься стоять?..»
И продолжал стоять в снегу, не двигался. Мне повезло — попал крупный самец, сильный заяц, у сестренки праздник… Надо его добить, как это делают все. Выломать потяжелей палку и… День рождения сестры завтра. Уж коль затеял, то доводи до конца…
Я выломал ольховый сук, кривой, как рог матерого лося. Я двинулся на рвущуюся от меня жертву. И уже совсем развиднелось, и мятущийся сгусток обрел плоть. Но даже теперь, отчетливо видный, он мало походил на зайца не смиренный зверек, а зверь агрессивный, пружинисто-прекрасный. Не зря, оказывается, мне рассказывали — матерые самцы иногда ударом лапы распарывали живот неосторожным охотникам. За свой живот мне можно было не опасаться, до него прежде пришлось бы распороть толстый ватник. Мой кривой ольховый сук не подымался…
Ты жалкая размазня! Кисляй! Даже пойманного зайца взять не можешь!
Зачем было тогда ставить петлю! Ну! Бей! Так делают все!.. В голодном доме должен быть праздник!..
Я шагнул вперед, вплотную к трепещущей елочке, но мой кривой сук не подымался. И тогда я нагнулся, освободил из-под елочки держалку, переломил ее. В лесу раздался тонкий, как всхлип, звук: то ринувшийся от меня беляк задел концом струны за ветку…
А каких-нибудь восемь месяцев спустя я убил человека. Я и раньше корректировал с НП огонь своей батареи, направлял тяжелые снаряды на окопы противника и радовался, когда над ними вспухали взрывы, знал — там остаются лежать трупы.
Ночью пешая разведка запоролась в траншею противника, ей на помощь подняли две роты, и неожиданно для себя наши вышибли немца с высоты, продвинулись вперед. А значит, и нам, артиллерийским наблюдателям, надо было искать новый НП.
Пехота еще не начала окапываться, толкались в отбитых траншеях, нас же манила гривка кустов по самому гребню — укрыться можно и обзор хорош. По росной травке я полз с автоматом следом за младшим лейтенантом Горбиной, командиром нашего взвода управления, за мной тащился телефонист с катушкой.
Кусты были не слишком густы и не слишком высоки — Горбина прилег, стал выпрастывать из-под себя бинокль, телефонист приткнулся шагах в пяти, облокотясь на катушку. И тут в стороне из кустов вырвался человек, ринулся вниз по склону — всклокоченная волосня, непривычная глазу зелень мундира.
Немец! Автомат сам взметнулся и забился в моих руках. Я не целился, лупил наобум, но удиравший споткнулся, с усилием встал, сделал шаг, упал ничком.
— Похоже, достал, — удивился Горбина и припал к биноклю. — Лежит куманек. Полюбоваться хочешь?
— Дай, — сказал я, чувствуя, как недоумение сменяется хмельком удачи.
В бинокль хорошо были видны густо подбитые блестящими гвоздями подметки немецких сапог, а дальше за короткими голенищами — невнятная смятость солдатской одежды. Ни жалости, ни раскаянья я не испытывал, а гордость, пожалуй.
На этой же высоте через три дня младшему лейтенанту Горбине перебило обе ноги, взводом управления батареи стал командовать я — выслеживал противника, а четыре тяжелых орудия расстреливали его. Два с лишним года война была моей профессией.
Во дворе нашего дома идет небойкое строительство — шумливая торговая база наконец-то отделяется от нас глухой стеной. В окно кухни можно наблюдать, как время от времени к куче кирпича в глубине базы выстраивается цепочка, и слева направо, слева направо — ручеек кирпичей, впадающий в ровный, растущий на глазах штабелек. Для этой несложной операции, должно быть, приглашаются все, кто свободен, — грузчики в синих халатах, женщина из проходной, хромой мужик, хлыщеватый юнец, ремонтник в замасленной спецовке, сам рабочий-каменщик, выводящий стену. И как только выстраивались, как только начиналось — слева направо, слева направо, — все они, разноликие, становились похожи друг на друга. Попал в цепочку — сам себе уже не хозяин.
Слева направо — норма твоего поведения.
Каждого из нас окружают люди. И эти люди никогда не бывают хаотичной массой, всегда определенным образом выстроены в некий действующий механизм — локально маленький, временный, как цепочка, перебрасывающая кирпичи, или же необъятно великий, непостижимо сложный, который мы привыкли называть словом «общество».
Люди не способны жить неупорядоченно. Никто не посмеет сказать про себя: я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то и ворочу. И меньше всего имели право на это царствующие особы, они являлись наиболее важной частью сложившихся механизмов, а потому свое личное «хочу» должны были обуздывать больше других. Не сам себе, а принадлежность системы! Механизм крутится соответственно своему устройству — крутись вместе с ним и ты, в рабочей цепочке поворачивайся слева направо, находясь в обществе, участвуй в общественных функциях.
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)