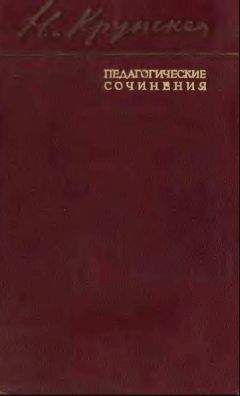Сергей Залыгин - НА ИРТЫШЕ
«Ищут все нынче, — констатирует Мещеряков. — Все и каждый. Не каждый знает, чего хочет».
Но как ни трудно было держать линию в разбушевавшейся стихии, как ни мечтал главнокомандующий, чтобы все его войско было подобно руководимому Петровичем образцовому полку красных соколов, он принимал действительность такой, как есть. Не роптал на нее, не впадал в отчаяние, а старался использовать для победы то, что можно. То же недовольство карасуковских зажиточных крестьян Колчаком и японцами, например.
«Коня, особенно боевого, — говорит он, — я, как главнокомандующий, выберу себе из тысячи. Чтобы он подходил ко мне, я — к нему. А людей человек не выбирает, нет, даже когда он самый верховный. Разве что только жену. Остальные все люди — какие вокруг тебя есть, с такими и живи, с такими воюй». Не безликую массу видит перед собой Мещеряков, а множество лиц. Характеров, индивидуальностей. И он считается с этой человеческой неповторимостью, уважает ее, понимает, что не бывает человека без личности: «не телята пришли в командиры, в главные и прочие штабы. Пришли те мужики, которые с норовом. Каждый со своим». И когда Петрович пытается внушить, что в нынешних условиях надо забыть о личности, Ефрем решительно не соглашается с ним: «Личность ковыряешь? Что тебе от нее надо? Хочешь, чтоб я воевал, но — без нее? Это невозможно!» Не потому ли Ефрем старается как можно лучше узнать каждого, запомнить его, разгадать. Разгадать, чтобы умело воздействовать на человека. Уважение для главнокомандующего немыслимо без требовательности.
О партизанской эпопее в Сибири создано в разные годы немало значительных произведений. От появившегося вскоре после революции романа В. Зазубрина «Два мира», партизанских повестей В. Иванова, «Разгрома» А. Фадеева до романов Г. Маркова, К. Седых, С. Сартакова. Этот творческий опыт без сомнения сослужил Залыгину добрую службу. Как и другие писатели-сибиряки, он предельно чуток к самобытному народному говору, к особенностям положения тогдашнего крестьянства, питавшего революционную армию, к его социальной психологии; вслед за Зазубриным смело вводит в повествование подлинные документы тех лет, выдержки из газет, листовок, приказов. Однако «Соленая Падь», конечно, не стала бы событием в литературе, будь она простой вариацией известного и освоенного. Новизна романа и не в том, что писатель якобы пересматривает историю, — такого пересмотра здесь нет; дело в своеобразии его угла зрения на действительность, в том, какие проблемы и конфликты времени вызывают его интерес.
Скажем, традиционная тема пути в революцию — пути Мещерякова, Брусенкова и Таси Черненко, городской девушки, одержимой идеей жертвенности, презирающей как непростительную слабость всякое проявление душевной мягкости, интеллигентности, — также наличествует в повествовании. Но дана она сжато, отнесена как бы в предысторию действия. Писателя же занимает иное: путь человека уже в революции, проблема ориентировки в ней.
Как и в повести «На Иртыше», сюжет «Соленой Пади» повернут в грядущее. Главным предметом исследования становится то, что будет жить, получит продолжение, конфликты, завязанные этим временем, но порой не до конца решенные им. И напротив, то, что обречено, — все белое движение дано как бы общим планом и почти не персонифицировано. Разумеется, угроза, исходящая от белых, постоянно ощущается в романе, сказывается на поведении героев, влияет на него. Мещеряков не раз размышляет об опасности предсмертной агонии Колчака, о том, что его войска ищут какого-то немыслимого, страшного шанса на спасение. Они готовы на все — на любую жестокость и гнусность. Но готовность эта уже от бессилия, от отсутствия опоры: «Им, белым, что? Они пришлые и даже чужестранные, не то, что деревню — землю саму сожгут — не жалко. Недаром белые местных мужиков и не могут, сколько ни бьются, мобилизовать, разве только сынков кузодеевских и еще тех, у кого всю-то жизнь разбой и грабеж в крови играл, а тут настало время — волчья их повадка вышла наружу. По своей деревне из орудий бить — на это среди людей редко кто решится, среди зверья только и найдутся такие». Но, как ни страшна эта опасность, она очевидна. И очевидны выводы — истреблять зверье, разгадывать его хитрости, противопоставлять его тактике свою. Таков один из источников напряжения в романе.
Другой источник — это взаимоотношения внутри самого лагеря восставших. Взаимоотношения сложные, драматические по целому ряду субъективных и объективных обстоятельств. Единые перед лицом врага, в своем неприятии прошлого, люди далеко не одинаковыми глазами смотрели в будущее, даже ближайшее. Отсюда непрекращающиеся споры о характере власти, ее задачах, о методах борьбы с белыми. Споры закономерные, поскольку все, что совершалось на Освобожденной территории, совершалось впервые. И совершалось в отрыве от Большой земли, от центров революции, на свой манер, в силу своего разумения, при отсутствии достаточных знаний у вожаков. «Еще не настоящая у нас, не фабричная работа, — с горечью признает Мещеряков, — а каждый делает на свой лад. Уже сейчас не жалко кое-что побросать как негодное».
Народ сам устраивал жизнь, сам устанавливал порядки. Устанавливал основательно, по-хозяйски, с великим желанием устранить все чуждое, устарелое, но и с предубеждением против поспешности. «Горы-то двигать тоже надоть знать, в какую сторону? — предостерегает один из партизан. — Чтобы на себя не свалить…» И к этой проблеме писатель подходит, вооруженный знаниями не только конкретной обстановки, но и последующего исторического опыта, позволившего ему увидеть в прошлом то, что не всегда замечалось другими авторами.
Действие и философское осмысление его неразделимы в романе Залыгина. Здесь все подвергается народному суду, особенно придирчивому и требовательному в годы крутого исторического перелома: и методы, и призывы, и поступки, и самые личности вожаков, коммунистов. Да, и личности. По ним, по их поведению, нравственному облику люди судили о самих большевистских идеях. И не прощали ни малейшего расхождения между словом и делом, ни малейшего своекорыстия. «Ведь идея — она же не сама по себе, ее глазами не углядишь, руками не нащупаешь, — заявляет на собрании партячейки Лука Довгаль, — она — это мы с вами! Она для всех масс такая и есть, какие мы с вами для них являемся». Лука не знает границ в своей требовательности к товарищам по партии, к чистоте великого звания коммуниста. Он готов исключить Никишку Болезина за одно то, что тот купил на базаре картину с тремя конными богатырями. Возмущение Довгаля наивно, но оно идет из глубины его честного, неподкупного сердца и вполне в духе эпохи: «Да ежели мы, все члены нашей самой чистой в мире партии, увешаем свои избы картинками, не глядя, что сосед, может, в ту минуту о куске думает и вообще в два, а может, и в три раза в имущественном положении меньше тебя имеет, — какое мы покажем тогда движение к своему будущему, к свободе, равенству и к братству?»
Рассуждения Довгаля показательны для духовной атмосферы романа. Они выражают мечту о новой нравственной норме человека. Норме небывалой и необычайно высокой, поскольку в ее основе принципиально иные измерительные категории.
Старик Власихин во время суда над ним высказывает поразительно глубокую мысль: «От большой беды уходим. И да-алеко еще от нее должны уйти, чтобы она к нам вновь и еще сильнее не пристала! Все должны наново переменить, всю свою жизнь. Сможем ли? Одно знаю — другого исхода нынче нет!»
Он имеет в виду не только ту беду, что ощетинилась колчаковскими штыками вокруг Освобожденной территории, но и ту, что — в самих себе, так называемые родимые пятна прошлого. Пятна живучие и не вдруг поддающиеся искоренению. Взять, к примеру, начальника главного штаба Соленой Пади Ивана Брусенкова. Нет никаких сомнений в его ненависти к старому строю, к эксплуатации. Он весь — сплошное отрицание. Отрицание богатства, собственничества рабьей покорности. Но и не только этого, Брусенков отрицает прежнюю жизнь целиком, без разбора. Он ставит на одну доску капиталиста и балерину, буржуазную культуру и великие духовные ценности прошлого, продажную, пресмыкающуюся перед сильными мира сего интеллигенцию и интеллигенцию, интеллигентность вообще. Он одержим стремлением разрушать, разрушать безжалостно, до конца, не считаясь с потерями. И если что-то в жизни было «не тем», Брусенков готов уничтожить самую жизнь, целые народы обвинить в недостатке решимости и сознательности: они, мол, сами виноваты, что их миллионами угнетают. Он призывает торопиться делать революцию, «пока горячо, пока не остыло, пока мы на жертвы готовые на любые, а капитал всей опасности не осознал».
Однако торопливость его — от неверия в массы, от страха, что буржуазия, осознав опасность, сможет подачками развратить их, сбить революционное пламя. Вот и спешит он подливать масло в огонь, обрекать на гибель тысячи, не считаясь даже с утратой завоеваний: «пусть белые придут! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое великое дело!» Интуитивно, по собственной догадке подходит Брусенков к тем неведомым ему теориям, что проповедовали в начале гражданской войны да и сейчас еще проповедуют пресловутые левые р-революционеры. Ведь помним же мы, к чему призывали эти левые в горькие дни Брестского мира: «В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты Советской власти, становящейся теперь чисто формальной». «Тактикой отчаяния», настроением «глубочайшего, безысходного пессимизма» назвал тогда Ленин такие подстрекательские призывы.