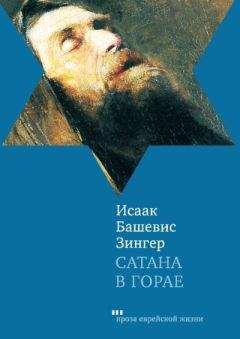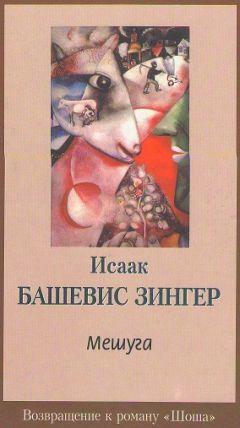Исаак Башевис-Зингер - Суббота в Лиссабоне (рассказы)
Наконец все очнулись, и тут началось: они не желали подчиниться приговору. Пошли обидные намеки, оскорбления… Отец стоял на своем. Говорил просто: «Я же спросил, хотите ли вы полное решение вопроса или согласны на компромисс?» — «Даже компромисс должен иметь свои резоны». — «Я уже сказал. Это мое решение. И у меня нет отряда казаков, чтобы заставить вас его исполнить».
Арбитры удалились, чтобы все досконально обсудить со своими клиентами. Они ворчали, ругались, протестовали, высказывали обиды и претензии. Помню, самые громкие протесты исходили как раз от того, который на самом-то деле извлек пользу из отцовского решения. Потом договорились до того, что компромисс вообще невозможен. Но, в конце концов, и так — плохо, и этак — не очень хорошо. Может, лучше ничего и не придумаешь? Все же они были деловые партнеры и потому ударили по рукам. Тем дело и кончилось. Раввины опять послали меня в лавку. После того, что тут было, можно и подзакусить. После всех ссор и споров надо восстановить силы! Снова эти двое были лучшие друзья, и один из них даже сказал, что порекомендует другого, чтобы тот разобрался в одном известном ему деле! Наконец все ушли. В кабинете остался только дым от выкуренных сигар и папирос да стол, заваленный бумагами, шкурками от фруктов, объедками, остатками всякой снеди. Отец получил щедрый гонорар — двадцать рублей, помнится. Я видел — у отца на душе неприятный осадок. Он попросил мать как можно быстрее убрать со стола. Открыл дверь, чтобы выветрился запах — запах, напоминающий о богатстве, о роскоши, о тщете и мирской суете. Эти тяжущиеся были деловые люди. В конце-то концов, что с них взять. Но раввины — эти чрезмерно ловкие и хитроумные раввины! — вот что причинило отцу глубокую боль.
Как только мать привела стол в порядок, отец сел, чтобы возобновить привычные занятия. Взялся за книги рьяно, нетерпеливо, с невероятным пылом и рвением. Здесь, в этих святых книгах, никто не закусывал сардинами, никто не делал скользких намеков, не льстил, не хвастался, не говорил двусмысленностей, не острил так, что не хотелось этого слушать. Здесь царствовали святость, преданность истине, почитание учителей.
В хасидском бейт-мидраше, куда отец ходил молиться, прослышали об этом деле — о поразившем всех, сенсационном Дин-Тойре. Там обсудили это и с моим отцом. Говорили, что теперь он прославился на всю Варшаву, у него такая репутация — дальше некуда… Отец только отмахнулся: «Да нет, ничего хорошего…»
И тогда отец рассказал мне о ламедвавниках — тридцати шести праведниках, тайных святых: портных, башмачниках, водоносах, от которых зависит, чтобы мир продолжал существовать. Отец говорил об их бедности и смирении, о том, что они к тому же притворяются невеждами — лишь бы никто не догадался об их истинном величии. Он говорил об этих святых с особой, страстной, горячей любовью. Потом добавил: «Одна кающаяся сокрушенная душа имеет большую цену перед Всемогущим, чем тридцать шелковых кафтанов».
КЛЯТВА
Когда бы ни проходил у нас Дин-Тойре, отец повторял снова и снова: «Ни в коем случае никаких клятв, никакой божбы». И не только против этого он категорически возражал — даже против поручительства, против честного слова, против рукобития как гарантии исполнения обещанного. Никто, ни один человек не может полагаться на собственную память — доказывал, убеждал отец. Значит, никто не может поручиться даже за то, что он считает непреложным. Записано ведь, что когда Господь провозгласил: «Не произноси всуе имя Божие…», всколыхнулась земля и задрожали небеса.
Часто встает в моем воображении такая картина: Гора Синайская объята пламенем, Моисей стоит там со Скрижалями в руках, и слышится с небес глас могучий — Глас Бога. Задрожала земля, заколыхалась, встрепенулись моря и океаны, погибали города, разрушались, разбивались на куски горы… Задрожали небеса, и солнце заколебалось, и луна и звезды…
Но эта женщина в большом черном парике, мужеподобная, в турецкой шали на широких плечах, ничего так не желала, как поклясться. Она просто жаждала, умоляла, требовала — дать ей эту возможность. Совершенно не помню, что за Дин-Тойре в тот раз у нас собрался. Помню только, что там была эта женщина и несколько мужчин, которые в чем-то ее обвиняли. То ли о наследстве шла речь, то ли об утаенных деньгах. Если правильно помню, дело касалось довольно крупной суммы. Эти люди грозили ей, звучали резкие, грубые слова: ее называли воровкой, гнусной обманщицей и разными другими оскорбительными словами. Но женщина тоже в долгу не оставалась. На каждое обвинение она отвечала подобным же обвинением или ругательством. Над верхней губой у нее росли волосы — такие женские усики. На подбородке — жировик, и на нем тоже росли волосы, как бы небольшая бородка. А голос — грубый, резкий, словно у настоящего мужика. Женщина вела себя очень агрессивно, никак не желала смириться с обвинениями, ни одно оскорбление не желала проглотить, не оставляла без ответа. И только пронзительно визжала:
— Рабби! Зажгите черные свечи, откройте Ковчег Завета! На свитке хочу поклясться! Только на чистом клясться я хочу! На Святой Торе!
Отца прямо трясло:
— Что за спешка такая — божиться?!
— Рабби, позволено божиться, сели я правду говорю. Я готова побожиться перед черными свечами! Могильным холодом, смертью, пусть очистит меня клятва!
Она была, наверно, откуда-то из провинции, из местечка, потому что женщинам из Варшавы такие клятвы, выражения такие были несвойственны. Она сжимала руки в кулаки и так с размаху грохала по столу, что аж чайные стаканы тряслись. Чуть что, подбегала к двери, будто собиралась уйти. И опять возвращалась — с новыми доказательствами своей невиновности, с новыми обвинениями в адрес противной стороны. Неожиданно она высморкалась — да так громко, с таким трубным звуком — можно было подумать, что в шофар[45] протрубили. Я стоял у отца за стулом и трясся от страха — боялся, эта дикая фурия, просто мегера какая-то, все у нас расколотит: стол, стулья, отцовскую кафедру, порвет книги, побьет мужчин — в общем, сделает что-нибудь ужасное, невероятное по жестокости. Мать моя, хрупкая как тростиночка, очень деликатная, то и дело испуганно заглядывала в дверь. Жуткая, сверхъестественная сила исходила от этой женщины.
Тяжущиеся все больше и больше распалялись, появлялись новые доказательства правоты обеих сторон, новые обвинения. Один из обвинителей, маленький еврей с красным носом и куцей сивой бородкой, осмелился по новой повторить обвинения — и вруньей ее назвал, и воровкой, и растратчицей, и все такое в том же роде. Вдруг женщина вскочила. Сейчас она набросится на этого человека, убьет его на месте — так мне вообразилось. Однако же она сделала нечто другое: открыла Ковчег, молниеносно ухватилась за свиток Торы внутри Арнкодеша[46] и завопила раздирающим душу голосом: «Клянусь на Святом Свитке, что говорю чистую правду!» И снова перечислила все доводы, что приводила в свое оправдание до того.
Отец вскочил, чтобы вырвать свиток. Но не успел. Поздно было. Противники ее застыли недвижно — окаменели будто. Голос женщины перешел в какое-то хрипение, потом она разразилась рыданиями. Целовала чехол свитка, плакала и стенала так, будто воет по покойнику или у нее крестился кто в семье.
У отца в кабинете воцарилось напряженное молчание. Отец аж побелел — стоял и тряс головой: нет, нет, нет. Мужчины уставились друг на друга — растерянные, сбитые с толку, в совершеннейшем замешательстве. Все кончено. Ничего нельзя сделать — ни сказать, ни возразить. Женщина ушла первая. Потом ушли мужчины. Отец стоял в углу, утирал слезы. Они лились и лились, стекали по щекам. Все эти годы он избегал даже поручительства, даже честного слова, рукобития — и вот в нашем доме женщина поклялась на нашем Свитке, на Святой Торе. Отец опасался сурового возмездия. Мать ушла в кухню, тоже весьма обескураженная. Отец открыл Ковчег, поправил деревянную ручку — будто хотел, чтобы Свиток простил его за все, что здесь случилось. Так это выглядело.
Обычно, когда Дин-Тойре заканчивался, отец рассказывал нам в семейном кругу все обстоятельства дела. На сей раз не произнес ни слова. Наверное, взрослые уговорились не упоминать о случившемся. Зловещее молчание нависло над нашим домом. Отец больше не болтал со мной о чем попало. Он ходил в бейт-мидраш к хасидам и подолгу засиживался там над молитвенником. Однажды только сказал, что есть у него одна лишь просьба к Всемогущему — чтобы ему больше не пришлось зарабатывать на хлеб раввинским судом. Я часто слышал, как он вздыхает и шепчет с мольбою: «Всемогущий! Отец наш небесный! О, помоги же нам, Господи…» И добавлял иногда: «Сколько можно? Сколько это будет продолжаться?»
Я знал, о чем он: как долго будет продолжаться изгнание? Сколько еще будет править миром Зло? И сколько может длиться власть Сатаны?