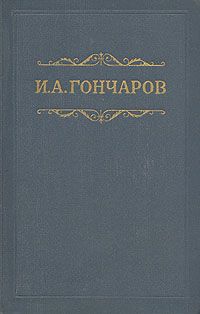Иван Гончаров - Обыкновенная история
Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, может быть, Петр Иваныч действует стратегически; что не в том ли состоит его таинственная метода, чтоб, поддерживая в ней всегда сомнение, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась.
Если б он еще был груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей, которым имя легион, которых так безгрешно, так нужно, так отрадно обманывать, для их и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтоб женщина искала вокруг себя и любила диаметрально противоположное им, – тогда другое дело: она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жен в таком случае. Но Петр Иваныч был человек с умом и тактом, не часто встречающимися. Он был тонок, проницателен, ловок. Он понимал все тревоги сердца, все душевные бури, но понимал – и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Он рассуждал о страстях верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина.
Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство над всем окружающим и терзалась этим. «Если б он не был так умен, – думала она, – я была бы спасена…» Он поклоняется положительным целям – это ясно, и требует, чтоб и жена жила не мечтательною жизнию.
«Но, боже мой! – думала Лизавета Александровна, – ужели он женился только для того, чтоб иметь хозяйку, чтоб придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома, чтоб иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена – в самом прозаическом смысле этих слов! Да разве он не постигает, со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь?.. Семейные обязанности – вот ее заботы: но разве можно исполнять их без любви? Няньки, кормилицы, и те творят себе кумира из ребенка, за которым ходят; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себе чувство муками, пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны с страстью, но лишь бы жить полною жизнию, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать!..»
Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделки своего будуара – и весь этот комфорт, которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодною насмешкой над истинным счастьем. Она была свидетельницею двух страшных крайностей – в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой – ледян до ожесточения.
«Как мало понимают оба они, да и большая часть мужчин, истинное чувство! и как я понимаю его! – думала она, – а что пользы? зачем? О, если б…»
Она закрыла глаза и пробыла так несколько минут, потом открыла их, оглянулась вокруг, тяжело вздохнула и тотчас приняла обыкновенный, покойный вид. Бедняжка! Никто не знал об этом, никто не видел этого. Ей бы вменили в преступление эти невидимые, неосязаемые, безыменные страдания, без ран, без крови, прикрытые не лохмотьями, а бархатом. Но она с героическим самоотвержением таила свою грусть, да еще находила довольно сил, чтоб утешать других.
Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях и о непонятой и неоцененной любви. Он перешел к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.
Я пережил свои страданья,
Я разлюбил свои мечты…[21] –
твердил он беспрестанно.
– И теперь меня преследует черный демон. Он, ma tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества, и в минуту глубокой думы!
Так прошло несколько недель. Кажется, вот еще бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем и, может быть, сделался бы совсем порядочным, то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет! Особенность его странной натуры находила везде случай проявиться.
Однажды он пришел к тетке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, что суждение, то эпиграмма, направленная и на тех, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.
– Вы хотите знать, – начал он тихо, торжественно, – что меня теперь волнует, бесит?[22] Слушайте же: вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. Дядюшка, в начале моего приезда сюда, принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей; но я то изорвал и послал другое, стало быть, меняться моему приятелю было не от чего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне побежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова: дух захватило. Он взял одну руку и пожал. «Здравствуй, Адуев!» – сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. «Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились, слегка спросил, что я делаю, где служу, долгом счел уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и… всеми людьми, и своей судьбой… потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званый обед – слышите, ma tante? при свидании, после долгой разлуки, с другом, он не мог отложить обеда…
– Но, может быть, его стали бы ждать, – заметила тетка, – приличия не позволили…
– Приличия и дружба? и вы, ma tante! да это еще что: я вам скажу лучше. Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе – и исчез. Долго я смотрел ему вслед и все не мог прийти в себя. Это товарищ детства, это друг юности! хорош! Но потом подумал, что, может быть, он все отложил до вечера и тогда посвятит время искренней, задушевной беседе. «Так и быть, думаю, пойду». Являюсь. У него было человек десять приятелей. Он протянул мне руку ласковее, нежели накануне, – это правда, но зато, не говоря ни слова, тотчас же предложил сесть за карты. Я сказал, что не играю, и уселся один на диване, полагая, что он бросит карты и придет ко мне. «Не играешь? – сказал он с удивлением, – что же ты делаешь?» Хорош вопрос! Вот я жду час, два, он не подходит ко мне; я выхожу из терпения. Он предлагал мне то сигару, то трубку, жалел, что я не играю, что мне скучно, старался занять меня – чем, как вы думаете? – беспрестанно обращался ко мне и рассказывал всякий свой удачный и неудачный выход. Я наконец не вытерпел, подошел к нему и спросил, намерен ли он уделить мне сколько-нибудь времени в этот вечер? А сердце у меня так и кипело, голос дрожал. Это его, кажется, удивило. Он посмотрел на меня странно. «Хорошо, говорит, вот дай докончить пульку». Как только он сказал мне это, я схватил шляпу и хотел уйти, но он заметил и остановил меня. «Пулька кончается, – сказал он, – сейчас будем ужинать». Наконец кончили. Он сел подле меня и зевнул: тем и началась наша дружеская беседа. «Ты мне что-то хотел сказать?» – спросил он. Это было сказано таким монотонным и бесчувственным голосом, что я, ничего не говоря, только посмотрел на него с грустной улыбкой. Тут он вдруг будто ожил и засыпал меня вопросами: «Что с тобой? да не нуждаешься ли в чем? да не могу ли я быть тебе полезным по службе?..» и т.п. Я покачал головой и сказал ему, что я хотел говорить с ним не о службе, не о материальных выгодах, а о том, что ближе к сердцу: о золотых днях детства, об играх, о проказах… Он, представьте! даже не дал мне договорить. «Ты еще все, говорит, такой же мечтатель!» – потом вдруг переменил разговор, как будто считая его пустяками, и начал серьезно расспрашивать меня о моих делах, о надеждах на будущее, о карьере, как дядюшка. Я удивился, не верил, чтоб в человеке могло до такой степени огрубеть сердце. Я хотел испытать в последний раз, привязался к вопросу его о моих делах и начал рассказывать о том, как поступили со мной. «Ты выслушай, что сделали со мной люди…» – начал было я. «А что? – вдруг перебил он с испугом, – верно, обокрали?» Он думал, что я говорю про лакеев; другого горя он не знает, как дядюшка: до чего может окаменеть человек! «Да, – сказал я, – люди обокрали мою душу…» Тут я заговорил о моей любви, о мучениях, о душевной пустоте… я начал было увлекаться и думал, что повесть моих страданий растопит ледяную кору, что еще в глазах его не высохли слезы… Как вдруг он – разразился хохотом! смотрю, в руках у него платок: он во время моего рассказа все крепился, наконец не выдержал… Я в ужасе остановился.
– Полно, полно, – сказал он, – лучше выпей-ка водки, да станем ужинать. Человек! водки. Пойдем, пойдем, ха, ха, ха!.. есть славный… рост… ха, ха, ха!.. ростбиф…