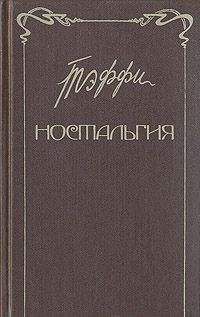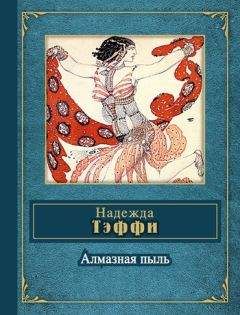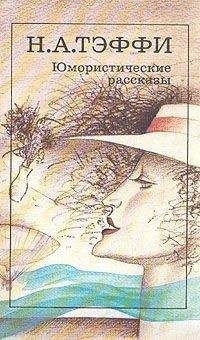Надежда Тэффи - НОСТАЛЬГИЯ
— Когда разрешите заехать к вам по очень важ
ному делу? Я вас не задержу…
Ага! Начинается.
— Может быть, вы будете любезны,—говорю я
в трубку и сама удивляюсь, какой у меня стал
блеклый голос,—может быть, вы можете сказать мне сейчас, в чем приблизительно дело…
Но, увы, обыкновенно редко на это соглашаются. Дамы-патронессы почему-то твердо верят в неодолимую силу своего личного обаяния.
— По телефону трудно! — певуче говорит она.—
Разрешите всего пять минут, я вас не оторву надол
го.
Тогда я решаюсь сразу сорвать с нее маску:
— Может быть, это что-нибудь насчет концерта?
Тут уж ей податься некуда, и я беру ее голыми
руками:
— Когда ваш концерт намечается?
И, конечно, какой бы срок она ни назначила, он всегда окажется для меня «к сожалению, немыслимым».
Но бывает так, что срок назначается очень отдаленный — через месяц, через полтора. И мне, по легкомыслию, начинает казаться, что к тому времени вся наша планетная система так круто изменится что и волноваться сейчас не о чем. Да, наконец, и патронесса к тому времени забудет, что я согласилась, или вечер отложат. Все может случиться
— С удовольствием,—отвечаю я.—Такая чудес
ная цель. Можете на меня рассчитывать.
И вот в одно прекрасное утро разверну газету и увижу свое имя, отчетливо напечатанное среди имен писателей и артистов, которые через два дня выступят в зале Дворянского или Благородного собрания в пользу, скажем, учеников, выгнанных из гимназии Гуревича.
Ну что тут сделаешь? Заболеть? Привить себе чуму? Вскрыть вены?
А раз был со мной совсем уж жуткий случай. Вспоминаю о нем, как о страшном сне. Бывают такие сны. От многих доводилось слышать.
«Снилось мне, будто должен я петь в Мариинском театре,—рассказывал мне старичок, профессор химии.—Выхожу на сцену и вдруг соображаю, что петь-то я абсолютно не умею, и вдобавок вылез в ночной рубашке. А публика смотрит, оркестр играет увертюру, а в царской ложе государь сидит. Ведь приснится же эдакое…»
Так вот, случай, о котором я хочу рассказать, был такой же категории. Кошмарный и смешной.
Пока спишь, пока в нем живешь — кошмар. Когда выйдешь из него — смешной.
Приехал как-то какой-то молодой человек просить, чтобы я участвовала в диспуте о кинематографе «О великом немом».
Тогда эта тема была в большой моде.
Участвовать обещали Леонид Андреев, Араба-жин, критик Волынский, Мейерхольд и еще не помню кто, но что-то много и звонко.
Я, конечно, сразу пришла в ужас.
Еще прочесть кое-как с эстрады по книжке свой собственный рассказ — это куда ни шло, в конце концов, не так уже трудно. Но говорить я совсем не умею. Никогда не говорила и начинать не хочу.
Молодой человек стал меня уговаривать. Можно, мол, если я совсем уж не умею говорить, написать на листочке и прочесть.
— Да я ничего не знаю о кинематографе и ровно
ничего о нем не думаю.
— А вы подумайте!
— Никак не могу подумать — все равно не вый
дет.
В то время как раз ужасно много по этому вопросу писалось, но я все это пропустила и действительно совершенно не знала, на кого опереться, на что сослаться и против кого высказаться.
Но тут молодой человек сказал чудесное успокоительное слово:
— Диспут-то ведь будет через полтора месяца. За
это время вы, конечно, отлично ознакомитесь с во
просом, а потом по записочке и прочтете.
Действительно, все выходило так уютно и просто, и главное — через полтора месяца.
Ну конечно, я согласилась, и молодой человек ушел окрыленный.
Время шло. Никто меня не беспокоил, никто ничего не напомнил, и я ни о чем не вспоминала.
И вот настал как-то скучный, пустой вечер, когда видеть никого не захотелось и ехать было некуда. И вот от скуки решила я пойти в Литейный театр, отчасти даже по делу. В театре этом шли постоянно мои пьесы, и изредка нужно было проверять, как именно они идут. Дело в том, что актеры так вдохновлялись (народ был все молодой, веселый, талантливый) и так, по актерской терминологии, «на-
кладывали», то есть прибавляли столько отсебятины, что уже на десятом-двенадцатом представлении некоторые места пьесы столь далеко отходили от подлинника, что сам автор с трудом мог догадаться, что это именно его пьесу разыгрывают. А если оставить без присмотра, то на двадцатом или на тридцатом даже с любопытством мог бы спросить, что это за веселая дребедень такая — ничего не поймешь, а что-то между тем как будто знакомое…
Помню как сейчас, как один очень талантливый актер, играя в моей пьесе «Алмазная пыль» и исполняя роль нежно влюбленного художника, вместо слов: «Я, как черный раб, буду ходить за тобой»,— отчетливо и ясно говорил:
— Я, как черный рак, буду ходить за тобой.
Я подумала, что либо я ослышалась, либо он
оговорился.
Пошла за кулисы.
— Скажите, — говорю,—мне это показалось?
— Нет-нет, это я так придумал.
— Да зачем же? — недоумевала я.
— А так смешнее выходит.
Ну что тут поделаешь!
Но «рак» — это еще пустяки.
Раз, после долгого пропуска зайдя в театр, услышала я и увидела вместо своей пьесы такую развеселую галиматью, что прямо испугалась. Бросилась за кулисы. Там актеры встретили меня радостно и гордо.
— Что! Видели, как мы вашу пьесу разделали?
Довольны? Публика-то в каком восторге!
— Это все, конечно, очаровательно,—ответила
я.— Но, к сожалению, мне придется вас просить вер
нуться к моему скромному тексту. Мне неудобно под
писывать свое имя под плодом чужого творчества.
Они очень удивились…
Итак, в тот памятный вечер отправилась я в Литейный театр.
Было уже часов десять, и спектакль, очевидно, давно уже начался. У меня вход был свободный, и я прошла в конец зала и разыскала пустое место.
Народу было много, но… что это за пьеса? И почему зал освещен ?
Смотрю — на сцене стол, покрытый зеленым сук-
ном. За столом сидят… Посредине Мейерхольд — его сразу узнала. Арабажин стоит и что-то говорит… Вот Волынский… В конце стола какой-то молодой человек… Мейерхольд, сощурившись, всмотрелся в меня, видимо, узнал, подозвал знаком молодого человека (какая знакомая у него физиономия!) и сказал что-то, указывая на меня… Молодой человек кивнул головой и направился к выходу за кулисы.
«Что все это может значить? Верно, просто хочет из любезности предложить пересесть поближе… Но что они тут делают?»
Между тем молодой человек вошел в боковую дверь и уверенно пробирался ко мне.
Подошел.
— Вы желаете сейчас говорить или после пере
рыва? — спросил он.
— Я… я не желаю сейчас… Я не понимаю…—за
лепетала я в полном недоумении.
— Значит, после перерыва,—деловито сказал мо
лодой человек.— Во всяком случае, мне сказано про
сить вас подняться на сцену и занять место за сто
лом. Я провожу вас.
— Нет… нет… я сама. Господи! Что же это!
Он удивленно вскинул бровь и ушел.
И тут разобрала я долетавшие со сцены слова:
— Великий немой…
— Роль кинематографа…
— Искусство или не искусство…
И что-то забрезжило в моей голове, что-то стало принимать еще неясные, но явно неприятные формы…
Я тихо поднялась и пробралась к выходу. А у выхода увидела огромный плакат:
«Диспут о кинематографе».
И среди участвующих — отчетливо и ясно — свое собственное имя…
Прибежав домой, я велела перепуганной моим страхом горничной закрыть на цепочку дверь и никому не отворять, сняла телефонную трубку, легла в постель и засунула голову под подушку. В столовой был приготовлен ужин, но я боялась туда пойти.
Мне казалось, что там «они» меня легче разыщут…
Как хорошо, что все на свете кончается.
29
Итак, пришлось все-таки ехать в Екатеринодар, где антрепренер местного театра устраивал два вечера моих произведений с моим участием.
Выехала из Новороссийска в сумерки, унылая, усталая. Поезд был переполнен. Целые полчища солдат и офицеров забили все вагоны. Очевидно, ехали на фронт, на север. Но вид у всех был такой замученный, прокопченный, истерзанный, что вряд ли они долго отдыхали. Может быть, их просто перебрасывали с одного фронта на другой. Не знаю.
Меня втиснули в вагон третьего класса, с разбитым окном, без освещения.
На скамейках, на полу — всюду фигуры в бурых шинелях.
Душно. Накурено.
Прежде чем поезд успел двинуться, многие уснули.
Наискось от меня стоял, упершись спиной в стену, высокий тощий офицер.
— Андреев! — окликнули его со скамейки.—Са
дись, мы потеснимся.
— Не могу,—отвечал офицер.— Мне легче, когда
я стою.
И так простоял он всю ночь, откинув назад голову, закатив белки полузакрытых глаз, на лбу у него, под сдвинутым козырьком фуражки, чернело темно-алое круглое пятно. Точно командир «Летучего голландца», прибитый гвоздем к мачте, стоял он так всю ночь, чуть покачиваясь от толчков на расставленных длинных худых ногах. Говорили мало, кроме одного офицера, сидевшего у разбитого окна. Тот, не переставая, все рассказывал что-то, и я скоро поняла, что говорит он просто сам с собой, что никто его не слушает…