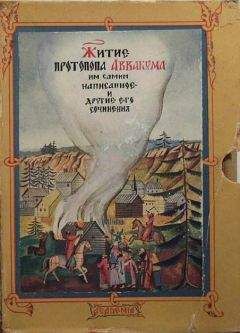Даниил Мордовцев - Державный плотник
«...опановали козаки вежу, которая усего города боронила, – читал Петр, – и из тоей вежи козаки разили турков в городе, же не могли себе боронити, которые и мусе-ли просити о милосердии, и сдали город; тилько тое себе упросили турки у его царскаго величества, жебы оным, вольно у свою землю пойти, на що его царское величество зезволил, отобравши город зо всем запасом, строением градским, и оных турков обложенцев казал забрати у будари на килькадесять суден и отвезти за море Азовское, у турецкую землю».
Петр остановился и вглянул на Меншикова.
– Полагаю, запись учинена с обстоятельствами верно, – сказал он.
– Верно, государь, – отвечал Меншиков.
– У черкас, я вижу, письменное дело зело хорошо налажено.
– Черкасы, государь, ученее нас.
– Подлинно... Да и свет учения и книгопечатное дело от них же, от черкас, идет к нам, на Москву.
А Павлуша Ягужинский, прислушиваясь к разговору царя с Меншиковым о черкасах, думал о своей «черкашенке» из Диканьки, и в душе его продолжала петь дивная мелодия:
Ой, гаю, мин гаю, зеленый розмаю!
Упустила соколонька – та вже й не пиймаю!..»
10
Между тем, пока царь на берегу «чужого моря» волновался великими государственными думами, под Нарвой его преображенцы и другие воинские люди, большею частью, кроме преображенцев и семеновцев, состоявшие из неопытных новобранцев, продолжали возводить укрепления своего лагеря, готовясь к скорой осаде.
Время стояло осеннее, ненастное. То хлестал дождь, то слепил глаза мокрый снег, и северное пасмурное небо не располагало к энергичной работе. Даже любимцы царя, преображенцы, чувствовали себя как бы покинутыми своим державным вождем.
– Не любы, что ли, мы стали батюшке-царю? Из царей разжаловал себя в капитаны бомбардерской роты... Простой капитан!
– Да и прозвище свое родовое переменил: стал Петром Михайловым.
– А видели, как он онамедни шанцы копал да сваи тесал? Топор у него ажно звенит, щепы во каки летят!
Кто-то затянул вдали:
На Михайловский денечек
Выпал беленький снежочек.
– И точно, братцы: завтра Михайлов день, и снежочек идет...
– Како снежочек! Просто кисель с неба немцы льют.
– Да и кисель-ту не беленький, а во какой, с грязью.
Разговор переходил на то, что не ладно-де... немца над войском поставили начальником. Всех удивляло, что командование войском поручено герцогу фон Круи.
– Ерцог!.. Да у нас на Руси ерцогов этих и в заводе не было.
И точно, немец на немце у нас в войске...
– Один такой вон уже и тягу дал, в Нарву убег.
Это говорили о Гуммерте, которого обласкал царь, а он перебежал к Горну, коменданту Нарвы.
– Эй, братцы! Слышь ты? Велят веселей работать... чтобы с песеньем... пущай-де там, в Нарве-ту, слышали чтоб... это чтоб страху на них напустить.
– А коли нет, так и запоем.
И один преображенец, опираясь на заступ, визгливым фальцетом запел:
Задумал Теренька жаницца,
Тетка да Дарья браницца:
Куда тебя черти носили?
Мы б тебя дома жанили.
Ил и-или-ил и-ил и-ил и.
Мы б тебя дома жанили.
Дружный хохот наградил певца.
– Ну и тетка Дарья у нас!.. Жох баба!
– А ты что ж, Терентий? – спросили добродушного богатыря, который продолжал железной лопатой выворачивать огромные глыбы сырой земли с каменьем.
– Что Терентий? Он не дурак до девок: он во как отрезал тетке Дарьюшке.
И другой преображенец, подбоченясь и скорчив ужасную рожу, запел:
Построю я келью со дверью.
Стану я Богу молицца.
Чтоб меня девки любили —
Крашоные яйца носили.
Или-или-или-или-или,
Крашоные яйца носили.
– Что, братцы, слышно в Нарве? – спросил певец.
– Должно, слышно: вон и вороны тамотка раскаркались на Тереху.
В это время к работавшим у шанцев подъехали князь Иван Юрьевич Трубецкой и заведовавший укреплением лагеря саксонский инженер Галларт.
– Бог в помощь, молодцы! – поздоровался Трубецкой с солдатами.
– Рады стараться, боярин! – гаркнули молодцы.
– Старайтесь, старайтесь. А завтра, ради Михайлова дня, я вас угощу большой чарой, – сказал князь.
– Покорнейше благодарим на милостивом слове!
«Большой чарке» солдаты особенно обрадовались, потому что ненастная, сырая погода требовала чего-нибудь согревательного, бодрящего организм.
А князь Трубецкой тут просто придрался к случаю. Его очень обрадовало письмо из Москвы, извещавшее его о женитьбе сына на Ксении Головкиной. От жены он знал, что Ксения – редкая девушка и по красоте, и по душевным качествам. Кроме того, ему лестно было породниться с Головкиным, которого царь заметно приближал к себе и отличал от других.
– А кто из вас так весело пел? – улыбнулся он. Солдаты замялись было, но простоватый богатырь Теренька выступил вперед и сказал:
– Это они меня передразнивали, ваша милость.
И он указал на певцов.
– За что ж они тебя передразнивали? – засмеялся князь.
– Что я бытта хочу женитца.
– Что ж, дело доброе, добудем Нарву, тогда и женим тебя. Прощайте, молодцы, – сказал князь, удаляясь, и прибавил: – Песельникам по две чары, а жениху – три.
Солдаты были в восторге.
– Ну так, братцы, пой! Боярин похвалил, да и спорей работа пойдет.
– Ин и вправду, заводи, Турин.
– Какую заводить-то?
– Ивушку, чтобы горла-те мы все опрастали.
И Гурин «завел» высоко-высоко:
Ивушка, ивушка, зеленая моя!
Солдатские «горла» подхватили, голоса все более и более крепли, и воодушевление особенно охватило всех, когда дело дошло до «бояр, ехавших из Новагорода».
Ехали бояре из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешок,
Сделали из ивушки два они весла —
Два весла-весельца, третью лодочку косну,
Взяли-подхватили красну девицу с собой...
– Ну, братцы, в Нарве, поди, всех воробьев распужали, – сказал, подходя, один семеновец.
– Да мы не даром поем: за пенье зелено вино жрем, – сказал Гурин.
– Ой ли! На каки таки денежки? Да тутай и кружала нету.
– Мы завтрея гуляем у самово боярина, князь Иван Юрьевича Трубецкова.
– Поддай, поддай жару, Гуря!
Гурин поддавал с высвистом:
Стали оне девицу спрашивати —
Спрашивати, разговаривати:
«Что же ты, девица, не весела сидишь...»
– Бояре, бояре едут! Как бы не тово, – убежал к своим семеновец.
Это ехали осматривать работы князь Яков Федорович Долгорукий, имеретинский царевич Александр и Автаном Михайлович Головин.
Вдруг среди работавших послышались голоса:
– Государь едет, государь едет!
Петр возвращался с морского берега радостный, возбужденный.
– Государь в духе, море видел, – улыбнулся Яков Долгорукий.
– Ему бы хоть поглядеть на море, и то сыт по горло, – заметил Головин.
– Ну, не говори, Автаном Михалыч, – сказал царевич Александр своим несколько гортанным говором, – от погляденья на море государь пуще распаляется; он бы все моря, кажись, выпил.
Царь увидел своих вождей и направился к ним.
11
На Москве тем временем князь-кесарь продолжал свое застеночное дело.
Одним из наиболее крупных зверей, уловленных князь-кесарем, оказался упоминаемый в предыдущих главах друг Талицкого, тоже из ученых светил школы знаменитого протопопа Аввакума, иконник Ивашка Савин. У него при обыске найдены и подлинные сочинения Талицкого.
Привели Ивашку пред светлые очи князь-кесаря. Сухое лицо иконника, напоминавшее старинный закоптелый образ, и стоячие глаза выдавали упорство фанатика.
– С вором Гришкой Талицким в знаемости был ли? – спросил Ромодановский.
– Был, не отрекаюсь; вместе Богу работали, – отвечал иконник.
– И с оным Гришкою в единомыслии был же?
– Был и в единомыслии.
Ромодановский глянул на иконника такими глазами, которых в Преображенском приказе никто не выдерживал. Иконник Ивашка выдержал.
– И слышал от Гришки воровские его на великого государя с поношением хульные слова?
– Слышал, – не запирался допрашиваемый.
Ромодановского поразила смелость иконописного лица.
– И воровские его, Гришкины, тетрати чел?
– Чел.
– И усмотря в воровских его тетратех государю многие укорительные слова, государю и святейшему патриарху не известил?
– Точно, не известил.
Князь-кесарь начал терять терпение.
– И ты его, Гришку, поймав, ко мне не привел по «слову и делу».
– Не привел... И то я учинил для того, чтоб он, Григорий, от меня не заплакал, и в том я перед государем виноват.
Ромодановский порывисто встал:
– С ним, я вижу, всухомятку негоже разговаривать, – обратился он к сидевшему за одним с ним столом Никите Зотову.