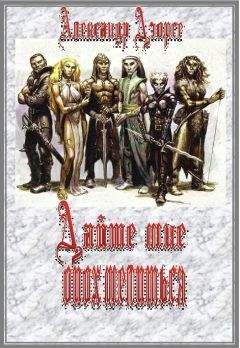Шарль де Костер - Фламандские легенды
Помимо «Общества весельчаков» (из которого он вышел в 1853 г.) Де Костер посещал студенческий литературный кружок «Лотокло». Пытаясь заработать на «жизнь, он выступал под разными псевдонимами с маленькими рассказами, сказками, стихами и заметками в газетах и журналах – иногда в журнальчиках-однодневках, написанных от руки, – эфемерных изданьицах, которые возникали так же внезапно, как исчезали. Не все напечатанное Де Костером в ту пору собрано: кое-что затерялось в периодической прессе.[64] Правда, он больше писал, чем печатал. Всегда недовольный собой он уничтожал большую часть написанного им.
В последние годы учения в университете Де Костер принялся писать александрийским стихом пятиактную историческую драму «Кресценций», которой придавал большое значение. Примечателен выбор героя-тираноборца. Кресценций, римский патриот, выступивший в X в. против германского владычества в Италии, пытался установить на родине республику, но был обезглавлен германским императором Оттоном III. В этот исторический сюжет Де Костер ввел легендарную фигуру жены Кресценция, Стефании, героически отомстившей императору за гибель своего мужа. Занятый подготовкой к дипломным экзаменам, Де Костер забросил работу над «Кресценцием». Лишь незадолго до своей кончины он возвратился к любимому детищу своей молодости и попытался переделать драму, дав ей новое название «Стефания».[65]
В 1851 г., когда Де Костер был студентом первого курса, он встретил Элизу Спрёйт. Ей было девятнадцать лет, ему – двадцать четыре. Под впечатлением этой встречи он написал в том же году стихотворение «Love»[66] и романтическую повесть «Силуэт влюбленного», в которой под именами Рене и Люси вывел себя и Элизу. Любовь к Элизе оставила глубокий след в его жизни и творчестве. «Нет у меня произведения, где бы я не набросал твой портрет», – писал он ей позднее (№ 67, стр. 142). Через несколько лет после того, как они расстались, он запечатлел черты Элизы, бывшей для него воплощением женской прелести и обаяния, в образа нежной Неле, подруги Тиля Уленшпигеля.
Отец Элизы – чиновник, занимавший видный пост секретаря брюссельского торгового суда, – не мог быть доволен поклонником дочери, не имевшим ни состояния, ни положения в обществе. Молодые люди вынуждены были видеться тайком. Но они часто писали друг другу. Письма к Элизе читаются, как лирическая повесть о возвышенной любви, обреченной на страдания и неудачу. В этих письмах – единственных, сохранившихся из переписки Шарля Де Костера, – отчетливо виден образ человека с восторженной и мечтательной душой, но с твердою волей и ясно осознанной жизненной целью.
Переписка между Де Костером и Элизой длилась восемь лет (1851–1858), пока длился их роман. Это были годы формирования писателя, годы подготовки его первой книги, когда, расставаясь со своими юношескими вдохновениями, он освобождался от чужих влияний, от многословия, риторичности, романтических штампов. «Я из тех, кто умеет ждать. Здесь не знают, как долго должен трудиться тот, кто хочет переделать весь свой способ мышления, кто стремится выйти на хорошую, верную, настоящую дорогу, избавиться от подражания, быть самобытным наконец!» – писал он Элизе перед выходом «Фламандских легенд» (№ 109, стр. 173–174).
Шарль Де Костер посвящал ее в свои писательские планы и замыслы, спрашивал, какого она мнения о его работах, восхищался благотворным влиянием любви на его талант: «Когда ты сравнишь написанное мною раньше с тем, что я скоро дам тебе прочитать, ты увидишь, как за это время развился мой ум. Я чувствую сейчас, что моя жизнь стала глубже. Моя мысль стала шире…» (№ 2, стр. 90–91).
В письмах Де Костера постоянно звучали отголоски его чтений. Он делился с Элизой своими суждениями о литературе, порой противореча себе, но всегда с полнейшей свободой и непринужденностью. Он не жаловал поэтов французского классицизма XVII в.: о Корнеле и Расине говорил, что они «влезли на высокие ходули» (№ 28, стр. 113), а Буало обозвал «бессердечным кретином».[67] Исключение он делал только для Мольера: «Единственный человек, которого я люблю во Франции, – уверял он Элизу в том же письме – это Мольер. И это все. Остальных я изучаю». Однако такое решительное заявление вовсе не значило, что Де Костер не любил других французских писателей. По свидетельству Й. Хансе, в других письмах он находил слова уважения для Мюссе, A. Kappa, Бальзака, Поля-Луи Курье, Монтэня и Рабле.[68] Особенно высоко Де Костер ставил Гюго. Много лет спустя он писал в журнале «Précurseur»: «Гюго – гениальный человек. Я им восхищаюсь и люблю его со всеми его странными причудами».[69]
Не менее горячо, чем Гюго, Де Костер почитал Жорж Санд. Она была ему особенно близка, и он часто упоминает ее имя в своих письмах. Он советует Элизе прочитать «Жанну» – «один из самых прелестных романов Жорж Санд» (№ 25, стр. 110). По поводу какого-то романа, который его привел в раздражение, потому что в нем дурно говорится о женщинах, он пишет: «Только одна Жорж Санд хорошо говорит о них, хоть и слишком многословно» (№ 38, стр. 119). Отзвуки проповеди Жорж Санд слышались и в тех письмах Де Костера, в которых он рисовал своей подруге счастливые картины их будущей семейной жизни: «Я никогда не буду твоим супругам, иначе говоря, не буду твоим господином, грубым животным, деспотом. Я буду твоим возлюбленным, братом, отцом – всеми вместе» (№ 30, стр. 114–115).
Де Костер очень любил Шиллера и Гофмана. И даже, когда он писал о своей любви к ним, он не забывал подчеркнуть, что Жорж Санд ему не менее дорога. «Знаешь, что я хочу тебе сказать: я питаю страсть к немецким писателям и к Жорж Санд».[70] Особенной притягательной силой обладал для него демократизм французской писательницы. Он ссылается на такие романы Жорж Санд, как «Орас», «Странствующий подмастерье», «Грех г-на Антуана», чтобы найти подтверждение своим собственным демократическим симпатиям: «Прочитав эти романы, светские люди говорят: «О, Жорж Санд идеализирует рабочих, они совсем не такие!» Ну и пусть говорят. Ведь ошибаются они, а не Жорж Санд. Одна она права. Если хотят еще отыскать душевный жар, энтузиазм, молодость, силу, то лишь в людях с мозолистыми руками и одетых в рабочие блузы» (№ 64, стр. 139).
Иногда Де Костер отчитывался перед Элизой, как он провел день, как трудился вечером. «Сегодня вечером я опять пересматривал первые 80 страниц «Галевина»… Есть еще длинноты» (№ 115, стр. 178) Трудиться для него было страстной потребностью. Тщательно работая над своими произведениями, он не уставал их поправлять, шлифовать, искать нужное слово. Он бывал к себе беспощаден: «Вчера вечеров меня немного лихорадило. Что за беда! Если так нужно, я согласен заболеть, лишь бы удалась моя вещь. Вылечиться успею потом. Завтра, а может быть и послезавтра я должен еще поработать над «Галевином». Сегодня вечером я не был достаточно строг к себе: позволил себе поддаться волнению даже до слез. Словно я читал что-то чужое. Завтра надо быть холоднее. Я должен стать грозным судией себе самому» (№ 116, стр. 178).
В письмах Де Костера проявилась его сложная, на первый взгляд противоречивая, но удивительно цельная натура. Он открывался Элизе в неожиданной особенности своего душевного склада. Этот человек, так любивший юмор и шутку, создавший одного из самых веселых в мировой литературе героев, был меланхоликом. «В глубине моей души таится вечная грусть. Я от природы грустен» (№ 145, стр. 201). Больше того. «Я не так сильно люблю тебя, когда я весел», – признавался он Элизе (№ 29, стр. 113–114). В литературе о Де Костере эту черту его характера объясняют обычно его неприкаянной, неустроенной жизнью. «Неудачи и вечные лишения наложили отпечаток горечи на душу Костера и придали меланхолический оттенок его произведениям», – писала в своей статье «Старшие и одинокие в новой бельгийской литературе» М. В. Веселовская, принадлежавшая к числу тех немногих русских критиков, которые еще до революции познакомили русских читателей с Шарлем Де Костером.[71] Однако такое объяснение верно лишь отчасти. В ту пору, когда Де Костер переписывался с Элизой, он был полон нерастраченных сил и молодой веры в будущее. Он писал, путешествовал, увлекался историей, был окружен друзьями, пламенно любил. И все-таки: «Иногда в разгар веселья мне хочется плакать, – пишет он Элизе. – Как часто я ловлю себя на том, что, находясь в кругу друзей, я становлюсь молчаливым, а если и произношу изредка что-нибудь, то глупость» (№ 37, стр. 118–119).
Вечная грусть, владевшая Де Костером, была грустью человека, который любит жизнь, мечтает, чтобы она была прекрасна, и томится сознанием ее несовершенства. Повседневная действительность его ужасает: «Все плоское, вульгарное, пошлое не только задевает меня, но причиняет страдания» (№ 37, стр. 118). Глубокие размышления рождают грусть, – так думает Шарль Де Костер, и он горько сетует на обостренную силу своей аналитической мысли: «Какое это несчастье – слишком много думать, какое большое несчастье! Всегда стремиться проникнуть в сущность вещей, анализировать характеры, подобно хирургу, вскрывающему труп. Ах, блаженны те, кто не думают!» (№ 66, стр. 141).