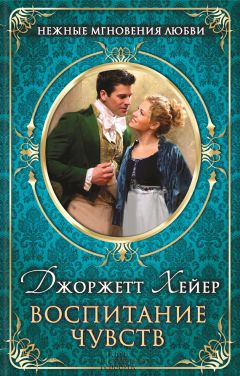Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
Она с такой добротой и пониманием относилась к любящим, ко всем их капризам, подчас оказываясь третьей в их уединенных беседах, что Анри вместо ухаживания за одной женщиной изливал жар своей души обеим; впрочем, посредница и впрямь заслуживала кое-каких любезностей, доставлявших ей истинное удовольствие (и гораздо меньшее — ее подруге).
— Она действительно преданна нам, — признала последняя в разговоре с Анри на второй день после его возвращения. — Но я не хочу, чтобы она приходила, когда ты будешь здесь: мне неприятно, что кто-то услышит слова, предназначенные только тебе; пусть будет с нами, пока вокруг люди, но не третьей, если мы вдвоем.
Она поинтересовалась, чем он занимался в каникулярное время.
— Куда ты отправлялся читать мои письма? Я, например, запиралась у себя, а потом прятала их у сердца. Тебя спрашивали, есть ли у тебя возлюбленная? Что ты ответил, милый? А любопытно им было узнать, красива ли она?
Затем она заставила его поклясться, что никакая другая женщина ему не понравилась, а воспоминание о прелестной Эмилии, как безотказный талисман, хранило его от всяческих искушений; Анри клятвенно заверил, что так и было, повторив это раз двадцать, — она все время переспрашивала, не то чтобы подозревала его в способности изменить, но так уж, на всякий случай.
Первого и пятнадцатого числа каждого месяца, как и в минувшем году, в пансионе собиралось общество, вечно одни и те же лица. В такие дни Эмилия выглядела особенно грустной.
— Мне не по душе, — жаловалась она, — что вокруг нас столько народа. Зачем это терпеть? Они так скучны! О, как же с ними тягостно! Все эти женщины тщеславны до безумия, не правда ли? Как они тебе, нравятся? Они ведь привлекательны, зарятся на тебя, хотят очаровать!
И томно поглядывала на любимого громадными черными глазами.
— Видишь ли, я так боюсь тебя потерять! Я ни на что уже не смогу надеяться, если ты меня разлюбишь, вот почему я опасаюсь всего, все меня угнетает, я говорю себе: «Сейчас он любит меня, а что будет завтра? Может, найдет другую, покрасивей и погорячей?»
— Замолчи, замолчи! — вскрикивал Анри, теряясь, как в первые дни разгоравшейся страсти. — Ты же знаешь, что это ложь, сама признала это несколько минут назад.
— Она должна быть такой гордячкой, женщина, которую ты полюбишь! Твоя любовь — как монарший венец, как же не думать о тех, кто позавидует чужой удаче.
— Кто же тебе завидует?
— Да все! По крайней мере, любая может прельститься тобой; ты, дитя, даже не ведаешь, как они вожделеют к тебе, я-то их понаблюдала, опасайся их!
— Ты ошибаешься.
— О нет! Я права и тысячу раз права. И потом — тут ведь каждый может поддаться? Ты такой красивый, мой сладкий! Особенно голос…
И она прижимала его к сердцу в нежном, мнилось ему, чуть грустноватом объятии.
В другой раз Анри подошел к ней, а она стала его отталкивать:
— Не люби меня больше. И я не хочу тебя любить, я сделаю тебя слишком несчастным, я тебя уморю.
Потом, вдруг опомнившись, будто после совершенного преступления:
— Нет, наоборот… ты должен меня любить еще больше, всей душой!.. Не оставляй меня одну, ведь когда тебя здесь нет, на сердце так пусто… не покидай меня, а то я умру!
Их давно вызревавшая страсть начинала подкисать, как стареющие вина. Дойдя до определенного градуса, все чувства, даже самые сладостные, преисполняются излишнего глубокомыслия, подобно тому как самые серьезные соображения доводятся до гротеска.
Эмилия становилась более категорична, даже жестка в своей нежности, Анри день ото дня все больше подчинялся ее напору: она приказывала, он являл образцы послушания, испытывая удовольствие от собственной податливости в руках этой женщины, чья любовь, крепнущая день ото дня, завоевывала его, словно армия — страну, и подменяла собой в его душе всякое иное чувство и любую привязанность: возлюбленная ухаживала за ним, одевала его, выбирала прическу и цвет сюртука, исполняла все то, что делает мать подростка, давала советы и смотрела за ним, как отец, а еще делилась с ним планами и надеждами, словно с подружкой. Она призывала его избрать наикратчайший путь, чтобы быстро пробиться к вершинам успеха.
Когда он куда-нибудь отлучался из дому, нужно было предупреждать ее, в каком именно часу его надлежит ждать обратно, а если он хоть малость запаздывал, у нее случались приступы тоскливого страха, ей чудилось, что любимый попал под карету, его укусила собака либо, проходя по мосту, он оступился и утонул.
Иногда, обычно к утру, когда утомленный Анри засыпал рядом с ней, неподвижность его черт внезапно вселяла в нее испуг, она наклонялась над его ноздрями, чтобы послушать, дышит ли он: она боялась, как бы он не умер. Эта мысль часто преследовала ее.
— Если тебя со мной не будет, если ты заболеешь или умрешь, что со мной станется? — ужасалась она.
Однажды во время совместной прогулки они прошли мимо кладбища, и она всплакнула.
Женщины не любят смерти, их отталкивает, им чужда та зияющая пустота, какую поэты нашего века носят в сокровенных глубинах души: существо, дающее жизнь, мучит себя сожалением, что она не вечна. Не говорите им, что вас прельщают пустые глазницы, пожелтевшие черепа и позеленевшие надгробья, не упоминайте при них, что вас необоримо влечет назад, в неведомое, в бесконечное, откуда вы явились на свет, чтобы туда же возвратиться, как капля воды, возникшая из пара морского, падает в океан. Не внушайте им, о вы, мыслители с бледным челом, что хорошо бы сопроводить вас в этом последнем путешествии или до самой старости карабкаться вместе с вами на горные кручи, ибо у них не столь верный глаз, чтобы заглядывать в пропасти мысли, и не столь широкая грудная клетка, чтобы дышать на высях горних. Но Анри от нее ничего подобного не требовал, она от него и подавно.
Эмилия просила его более не посещать Мореля, ибо Морель принадлежал к той породе людей, какую она презирала: они всегда насмешничают и надо всем потешаются; она также не хотела, чтобы Анри ходил в театр и вообще надолго покидал дом, на званых обедах запрещала танцевать (а он как раз научился), велела ссылаться на нездоровье или усталость и оставаться подле нее: она сделалась ревнивицей, ревновала к мадемуазель Аглае, мадемуазель Гортензии, к мадам Ленуар, мадам Дюбуа, вообще ко всем женщинам, даже самым старым и уродливым. Когда такие появлялись в пансионе, она обвиняла Анри в слишком пристальном разглядывании гостий или в чересчур длительных беседах с ними.
— Значит, я тебе больше не нужна? — тревожилась она. — Что я такого сделала?
Но Анри изобильем ласковых слов и дел доказывал ей обратное, и она успокаивалась:
— Хотелось убедиться, что ты еще любишь меня, впрочем, я и так уверена в тебе.
Она часто побуждала его пускаться в долгие собеседования с мсье Рено, молодой человек должен был крепче привязать к себе наставника и снискать больше его любви, чтобы тем вернее одурачивать.
— Опуститься до того, чтобы изображать, как я с ним дружен? Мне? Ну уж нет! — возмущался Анри. — Никогда! Он мне противен; да к тому ж… разве он не твой супруг? Это ты принадлежишь ему, тебе и карты в руки.
— Нет, тебе, — не унималась она, обвивая его руками. — Тебе и только тебе.
— Но ведь когда-то ты ему принадлежала. Он располагал тобой… как полный хозяин.
— Но не как ты, дружок, не как ты.
— Что с того? Я должен его ненавидеть, на моем месте ты чувствовала бы то же самое. Так вот, я ненавижу этого человека, потому что ревную к нему: он-то может тебя любить открыто, на виду у целого света.
Он и впрямь ощущал какие-то приступы недоброжелательства, грозившие обернуться подлинными взрывами ярости, если их слишком долго сдерживать; лицо папаши Рено, некогда представлявшееся довольно привлекательным, донельзя ему опротивело, его теперь шокировала грубоватая фамильярность, с какой тот беззастенчиво говорил «ты» чужой любовнице и чмокал ее перед самым носом у Анри; еще немного, и тот мог бы наброситься на главу семейства или плюнуть ему в физиономию.
Иногда в голове его теснились поистине чудовищные сомнения; он представлял себе: вот Эмилия у себя в спальне, прилегла, как обычно по вечерам, пламя свечи, воткнутой в хрустальный полый шарик ночника, подрагивает, в этом слабом свечении смутно белеют занавеси… а он, стараясь не дышать, крадется по лестнице, держась за стены, проникает в ее опочивальню — и вдруг застает там, чудилось ему, папашу Рено, тот как раз приближается к жене, гнусно ухмыляясь, подходит ближе, ближе — и целует прямо в уста. Анри страшило, что те же слова, какие слышал от нее он сам, она могла бы говорить тому, другому, он перебирал в уме ее ласки, страстные содрогания, стоны, вырывавшиеся из груди в любовном беспамятстве, — и его как громом поражало: ведь, чего доброго, соперник тоже когда-то слышал нечто подобное, может, подчас слышит и теперь, и эта мука будет длиться вечно. В такие минуты душу заливали потоки бешенства, он все глубже и глубже проваливался в трясину горчайших сомнений, стараясь почерпнуть в ней новые поводы ненависти и терзаний.