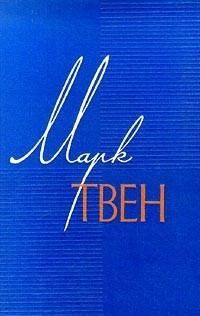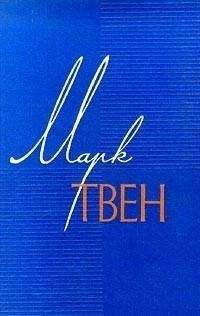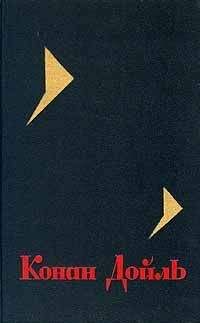Марк Твен - По экватору
Абориген умеет разводить огонь трением. Я тоже пробовал.
Все дикари с завидным мужеством переносят физическую боль. У аборигена-австралийца это качество развито особенно сильно. Нижеследующие ужасы приведены преподобным Генри Вулостоном из Мельбурна, который был хирургом, прежде чем стал священником. Слабонервным читать не рекомендуется.
«(1) Летом 1852 года я отправился верхом из Олбани, бухта Кит Джордж, и Кейп-Рич, и сопровождал меня пеший туземец. В первый день мы проделали около сорока миль и остановились на ночлег у колодца. Мы сварили и съели ужин; потом туземец сгреб в кучу горячую золу и на секунду сунул в эту тлеющую массу свою правую ногу; вытащив ее, он затопал по земле с гортанным протяжным криком, выражавшим боль и удовлетворение. Он проделал это несколько раз. Когда я спросил о причинах его странного поведения, он сказал только: «Лечу свою ногу», — и показал мне обугленный большой палец, ноготь с которого был сорван по дороге пнем чайного дерева, защемившим палец; он стоически терпел боль до вечера, пока ему не представилась возможность прижечь рану вышеописанным примитивным способом».
На следующий день он «как ни в чем не бывало» продолжал путешествие и прошел тридцать миль. Не забавно ли: иметь при себе врача и самому врачевать себя.
«(2) Однажды туземец, лет двадцати пяти, обратился ко мне как к доктору с просьбой — извлечь из его груди деревянное острие копья, которое месяца четыре назад, но время схватки с врагом, довольно глубоко проникло ему в тело, едва не задев сердце. Копье срезали, но острие осталось и постепенно двигалось все дальше в сторону спины. Исследуя молодого человека, я прощупал меж ребер под левой лопаткой твердый предмет. Я сделал глубокий разрез и с помощью щипцов извлек зубец, сделанный, как обычно, из твердого дерева, длиною в четыре дюйма и около дюйма толщиной. Он был гладкий и частично, так сказать, переварился, благодаря размачиванию, которому подвергался во время четырехмесячного путешествия по телу. Рана от копья давно зажила, оставив лишь небольшой рубец; после операции, — туземец перенес ее не дрогнув, — он, видимо, не ощущал боли. По правде говоря, если судить по его отменному здоровью, посторонний предмет в теле ничуть ему не мешал. Через несколько дней он чувствовал себя превосходно».
Но больше всего мне нравится случай 3. Всякий раз, когда я перечитываю это место, я словно сам переживаю все переживания пациента, каковы бы они ни были.
«(3) Однажды около бухты Кинг-Джордж ко мне явился одноногий туземец и попросил сделать ему деревянную ногу. Чтобы добраться до меня, ему пришлось с таким увечьем пройти чуть ли не сто миль. Нога была отнята по самое колено, и при осмотре я обнаружил, что обрубок обуглился и оттуда дюйма на дна торчит обожженная кость. Кость я тут же отпилил, сделав по возможности приличную культю, покрыл ампутированный конец кости мышечной средой и, пока не зажила рана, несколько дней держал пациента под наблюдением. Туземец рассказал мне, что в схватке с другими чернокожими его ударили копьем в ногу, и копье застряло в кости под коленом. Видя, что дело плохо, он совершил над собой эту варварскую операцию, которая, по-видимому, не такая уж редкость среди этих людей. Он зажег костер и вырыл рядом яму такой длины, чтобы в ней поместилась нога, и такой глубины, чтобы раненое место находилось вровень с поверхностью земли. Потом он обложил ногу горящими угольями и подбавлял угли до тех пор, пока нога в прямом смысле слова не отгорела. Подобное прижигание исключало возможность кровотечения, а дня через два туземец с помощью длинной крепкой палки заковылял к проливу, хотя ему предстояло идти больше недели».
Но он оказался привередливым человеком. Деревянную ногу, которую ему сделал доктор, он вскоре выкинул, ибо «в ней не было чувствительности». Хотел, наверное, чтоб в ней была такая же чувствительность, как в той, которая отгорела.
Ну, хватит об аборигенах, хоть мне и жаль с ними расставаться. Они необыкновенно занятные существа. Вот уже четверть века как власти многих колоний держат тех, кто остался к живых, в комфортабельных лагерях, кормят их и заботятся о них. Если бы я это знал, когда был в Австралии, я бы не упустил случая повидать их, но я не знал. Я бы не поленился пройти пешком тридцать миль, только бы увидать хоть чучело аборигена.
У австралийцев есть свой диалект. Эго само собой разумеется. Широкое разведение овец и крупного рогатого скота, своеобразная природа и своеобразные туземные животные — как люди, так и звери — не могли не породить местный диалект. У меня где-то хранятся записи всяких оборотов речи на этом диалекте, но сейчас я помню только несколько словечек и фраз. Однако и они достаточно выразительны. Обширные, безлюдные, бесплодные пустыни создали такие красноречивые сочетания слов, как: «ничья земля», «страна — конца края не видать», а также меткие словоупотребления: «она живет в стране конца края не видать», что означает: она старая дева. Неплохо и такое: «выгон для телок» — пансион для молодых девиц; «перепахать поле» — соответствует нашему разбойничьему термину «ограбить» дилижанс или поезд; «зеленый» — все равно что по нашему «новичок», новый поселенец. А бессмертное «Вот это да!». Мы должны его позаимствовать, «Вот это да!» Напечатанное, оно примерно соответствует вашему: «Вот так номер!» Но что способны передать бесстрастные буквы! Если «Вот это да!» произнести с истинно австралийским умилением и страстью, оно стоит шести наших по своему изяществу, прелести и колоритности. Наше выражение грубо, оно раздражает, его не скажешь в гостиной или в «выгоне для телок», меж тем «Вот это да!» там уместно; оно ласкает слух, если, конечно, умеючи его произнести. Я не раз видел это выражение напечатанным во время путешествия по Тихому океану, но оно меня не тронуло, не вызвало во мне симпатии. Ведь то была лишь мертвая оболочка, без души — недоставало интонации, одухотворенности, глубины чувства, красноречивости. Но когда я впервые услышал его из уст австралийца, оно меня воистину потрясло.
Глава XXIII. САМАЯ НЕПЬЮЩАЯ СТРАНА В МИРЕ
Будь неопрятен в одежде, если тебе так уж хочется,
но душу держи в чистоте.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ назначенный час мы покинули город Аделаиду и двинулись в Хоршем, колония Виктория. Насколько я помню, путешествие было долгим, но приятным. Хоршем расположен на земле, ровно», как стол, — одна из тех знаменитых мертвых равнин, которые австралийские книги так часто описывают: бесплодная, серая, спекшаяся, растрескавшаяся, печальная и мрачная в долгую изнуряющую засуху, но ярко-изумрудная, необозримый океан травы — через день после дождя. Это провинциальный, тихий, мирный, манящий городок с уютными домиками, палисадниками, массой цветов и аллей, окаймленных кустарниками.
Хоршем, 17 октября. — В гостинице. Погода божественная. Через дорогу, перед австралийским отделением Лондонского банка, растет красавец тополь. Он весь в листве, и каждый листок — совершенство. Весна старалась вовсю, не жалея сил, и я почти вижу, как он растет. Рядом с банком, чуть поодаль в саду — дерево с пушистой листвой, вздрагивающей при малейшем ветерке, взлетающей ввысь, словно брызги фонтана; ее пронизывают вспышки света — они резвятся и играют, как искорки в глубине опала; дерево красивейшее из красивых и полная противоположность тополю. На тополе ясно очерчен каждый лист — точная, строгая, трезвая фотография во всех ее деталях; второе дерево — картина импрессиониста, полная тонкого, изысканного очарования, но все детали растворились в дымке мягкой, неяркой прелести.
Мне пояснили, что это перечное дерево, ввезенное из Китая. У него шелковистый блеск, густой и нежный. Я видел несколько перечных деревьев, в листве которых прятались длинные красные гроздья ягод, похожие на смородину. Издали, при соответствующем освещении, они окрашивали дерево в розовый цвет, придавая ему новое очарование.
Милях в восьми от Хоршема есть сельскохозяйственное училище. Нас отвез туда его директор. Ехали мы в полдень, в открытом экипаже; было безветренно, в небе ни единого облачка; ослепительное солнце, температура +92° в тени. В иных странах неторопливая полуторачасовая веда в открытом экипаже при такой погоде вконец измучила бы путешественника, но здесь все было иначе. Уж очень климат хорош. Жара совсем не ощущалась, собственно ее и не было; чистый, свежий воздух бодрил; если бы поездка длилась полдня, мы и тогда, наверное, ничуть не утомились бы, но перестали болтать, не устали, не пали бы духом. Конечно, секрет этого в необычайной сухости воздуха. На Хоршемской равнине 120° в тени перенести безусловно легче, чем 90° в Нью-Йорке.
Дорога пролегала по самой середине свободной полосы земли шириною около ста ярдов. Мне назвали ширину не в ярдах, а в мерных цепях, перчах и, кажется, фурлонгах. Я бы дорого дал, чтобы узнать точно, какая там ширина, но я не настаивал. В подобных случаях разумнее принимать сведения такими, какими вам их преподносят, сделать вид, что они вас вполне устраивают, что вы поражены, благодарны, и сказать «Вот это да!», ничем себя не выдав. Ширина была огромная. Я мог бы сказать вам точно — в цепях, перчах и фурлонгах, но какой в этом толк? Слова эти хорошо звучат, но смысл их столь же туманен и расплывчат, как разница между английской мерой веса для благородных металлов и мерой веса для всего прочего, кроме благородных металлов: никто в этом ничего не понимает. Если вы вздумаете купить лекарство и аптекарь спросит вас, как вам его взвесить — в граммах или золотниках, — лучше всего ответить «да» и переменить тему.