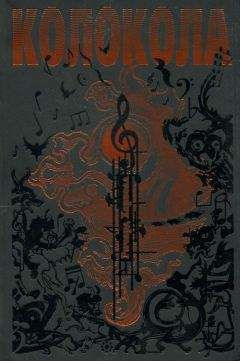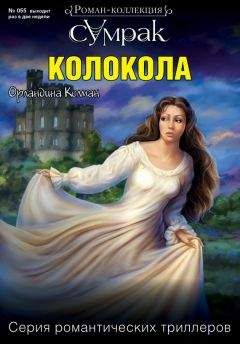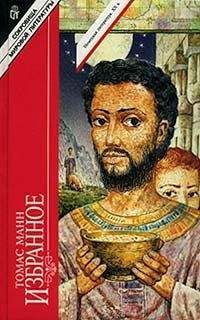Томас Манн - Избранник
Итак, все это я опускаю и обхожу; не мне вдаваться в такие вещи. То была их помолвка, и – ура! – свадьба не заставила себя ждать. Вот радость-то, вот веселье: трубачи разнесли по всей стране утешительную весть о том, что Фландрия-Артуа вновь обретет господина и герцога: разгул, пляски на улицах, потешные огни, обжорство, – всего этого было сколько угодно и в городах и в деревнях, и рекою лилось вино. А в замке Бельрапейре со всею пышностью справили свадьбу: более пятисот гостей из далеких и ближних мест (иных пришлось разместить в шатрах у подножья высокого замка) весело пировали за пятьюдесятью столами, на которые оруженосцы и пажи то и дело ставили блюда с говядиной, с оленьим и жирным кабаньим мясом, а также с колбасами, гусями, пулярками, щуками, карпами, форелями, налимами и раками. Отяжелев от сладких вин, гости во главе с факельщиками провели молодых через все залы. И Григорс пришел к Сибилле, и трескучие головни осветили их опочивальню, и они стали мужем и женой.
А почему бы и нет? – спрашиваю я сокрушенно. Он был мужчиной, она была женщиной, и, следовательно, они могли стать мужем и женой, ведь природе до всего прочего нету дела. Мой дух не хочет примириться с природой, он ей противится. Она от дьявола, ибо ее безразличие не знает предела. Мне хочется призвать ее к ответу и спросить у нее, как это она отваживается, как это ей удается добиться, чтобы порядочный юноша вел себя при таких обстоятельствах как ни в чем не бывало, чтобы он, как дурак, радовался грудям, его вскормившим, и нашел в себе предостаточно сил вторгнуться в лоно, его родившее. На подобный упрек природа, которую многие называют матерью и богиней, могла бы, наверное, возразить, что силы были даны юноше неведеньем, а не ею. Но тут госпожа богиня лжет, ибо под защитой и под покровом неведенья действует все-таки не кто иной, как она, и будь у нее хоть крупица порядочности, как же бы она не взбунтовалась против такого неведенья и не помешала ему, вместо того чтобы стать его сообщницей и наделить злосчастного юношу должной силой? Она поступает так из безразличия, настолько беспредельного, что оно простирается не на одно его неведенье, но и на нее самое. Да, природа равнодушна к себе самой, ибо в противном случае как же бы она могла допустить, чтобы ее собственное устремление в даль времен до того извратилось и чтобы рожденный от женщины, совокупляясь и плодясь, шел во времени не вперед, а вспять, в материнское чрево, и зачинал потомков, у которых лицо, так сказать, на затылке?
Позор природе и ее безразличию! Впрочем, нужно признать, что не будь она столь безразлична и воспротивься неведению, Григорс оказался бы в весьма щекотливом, отнюдь не подобающем рыцарю положении, чего я опять-таки не могу ему пожелать. Не знаю и знать не хочу, почему Сибилла в тихой своей молитве так пеклась о его чувственности. Во всяком случае, тут он был на высоте и наслаждался зрелостью своей подруги с такою же страстью, с какою та упивалась его молодостью. Словом, они были очень счастливы, – здесь невозможны никакие иные выраженья и определенья, – счастливы вполне, всей душой и всем телом, и в ту ночь и много других ночей и дней, блаженная герцогская чета, которую тоже можно было бы назвать «жойделакур», радость двора, как некогда прелестных детей Гримальда и Бадугенны; ибо их счастьем, скажу честно, было озарено все, что их окружало, на всех лицах сиял его улыбчивый отсвет. Оно, как солнце, согревало своими лучами страну, и даже о том, что обычно, в соответствии с верным порядком и направлением, называют потомством и прибылью в семье, даже об этом позаботилась природа, совершенно безразличная к своим действиям: госпожа Сибилла незамедлительно понесла, утроба ее, пустовавшая столько же лет, сколько было ее супругу, тяжелела и тяжелела, и ровно через девять месяцев после того, как огни факелов осветили опочивальню новобрачных, герцогиня, в умеренных и вполне естественных родовых муках, разрешилась девочкой, которую назвали Геррадой и которая удалась не в родителей: не отличаясь смугловатой латинской бледностью, она походила на свою бабку с материнской стороны, на благочестивую госпожу Бадугенну; как та бела и румяна, она была по-своему миловидна. Что у нее «лицо на затылке», никто не находил.
Конечно, все радовались бы еще больше, если бы стране был тотчас же подарен наследник мужеска пола, защитник и покровитель, надежда на будущее. Но зато ведь сам отец был еще так обнадеживающе молод, что, можно сказать, сам заменял преемника, в котором покамест судьба отказала стране, и если превосходившая его годами Сибилла показала себя полноценной, жизнетворной женой, то в лице ее супруга у страны был герцог, о каком мог только мечтать весь христианский мир. Он часто чинил суд, когда требовалось разобраться в каком-нибудь спорном деле или в междоусобной распре, и так как он в монастыре изучал de legibus, до чего не снисходил еще ни один государь, то не было на свете лучшего судии, чем он, пламенный поборник права и к тому же добросердый государь, стремящийся мудро удовлетворить всех и каждого. Десницы его, победившей бесноватого соискателя, боялись повсюду; никто не шел войной на страну, которая находилась под защитой обладавшего столь твердой и цепкой рукой государя, а самочинно нарушить мир, поневоле хранимый соседями, герцогу Григорсу и в голову не приходило. Он мог бы, конечно, кичась присущей ему способностью непомерно сосредоточивать свои силы в бою, склониться к захватничеству и подчинить себе больше земель, нежели ему принадлежало. Однако, хвала создателю, он не стал на этот путь и, блюдя меру, не желал иметь больше того, что было его достояньем и собственностью.
Так миновало три года. На третий, в знак счастья, которым она наслаждалась с юным своим супругом, Сибилла опять понесла.
Иешута
Думается, я уже достаточно, хоть и с немым отчаяньем, прославил благоденствие и блаженство этой четы. Пора сказать всю правду и несколько ограничить славословия. Тень легла на их счастье, тень и с его и с ее стороны, не видимая миру, замеченная и осознанная лишь ими самими, каждым в отдельности, ибо каждый думал, что тень падает только от него. Они разделяли тайну вины и греха, которую каждый считал своею тайной и которую они, при всей их сладостной близости, друг от друга скрывали. Это-то и было омрачающей тенью.
Сибилла в немом страхе таила от любимого, что она некогда предавалась порочным утехам с прекрасным братом и родила усопшему бесприютное дитя. В каждом любовном объятье она отдавала ему, чистому, греховное тело, испытывая при этом блаженство и все-таки казнясь стыдом и муками совести. Блаженством была надежда греха целительно омыться в чистоте, его тоска по очищению чистотой. Мукою и стыдом была благочестивая боязнь бедного греха замарать чистоту, осквернить ее слиянием с нею. Сибилла не раз плакала в одиночестве от этого стыда перед чистотой, которую она втянула в свой грех, но тщательно хоронила свои слезы от людей, и особенно от возлюбленного, единственного, кого она могла любить после смерти ее прекрасного брата. И он не замечал ни следов ее слез, ни скорби, придававшей ее ласкам только еще большую страстность.
У него была своя собственная забота, та же, что у нее, и при всем его счастье в державных делах и в супружестве он оставался «Тристаном, живущим в заботе». Разве он пустился в странствия не для того, чтобы найти своих многогрешных родителей, пасть к их ногам и простить им свое бытие, дабы и господь простил всех троих? Вместо этого он был герцогом в первой попавшейся стране, куда его занесло туманное море; впрочем, он завоевал женщину сладостной зрелости, необычайно близкую, как он сразу почувствовал, его природе, Сибиллу, точное подобие царицы небесной, и при этом созданную для земной радости, так что целомудренно-детская почтительность и мужской пыл странно соединялись в ее объятьях. В ее объятьях, у нежной ее груди, вкушал он совершенное блаженство, укромную отрешенность грудного младенца и в то же время мужское могучее вожделение.
Стало быть, совершенство может вырасти из чего-то страшного и ужасного, как я заключаю со свойственной иноку рассудительностью. Право же, в супружеские радости Григорса я, монах, вникаю лишь из духовной отваги и сокрушаясь о скорби, скорби, что вселилась и в него и в нее, как червь в розу. Ибо, увы, он ведь обманывал ее, чистую и высокую, возвысившую его до себя, и скрывал от нее, что тот, кто ее завоевал и кому она целиком отдалась, – в сущности, благообразный выродок. Он был обманщиком, утаивая от нее, что он – найденыш, выброшенный волнами и воспитанный из христианского состраданья, сын греха, чье мнимо красивое тело ей вовсе не следовало бы ласкать, ибо на самом деле оно состояло сплошь из греха. Правда, он жертвовал им, этим греховным телом, в бою с драконом; но ведь он же знал наперед, что победит благодаря своему дару чрезвычайной собранности, и завоевал в поединке женщину, которая теперь рождала ему маленьких Геррад, не подозревая, что это – отпрыски греха с отцовской стороны, семена наследственного проклятья, внуки порока. Как осмелился он плодить своим телом маленьких Геррад и протаскивать их в княжеский дом, молодым хозяином которого он теперь стал, – бедных, незаконных детей чистоты и скверны? Этим он был озабочен до слез.