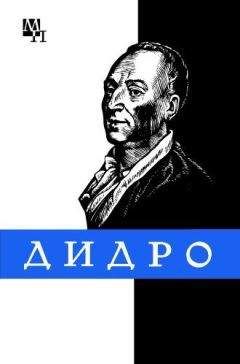Дени Дидро - Монахиня
– Как же он смотрит на это?
– Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Разве я могу разобраться в этом?
– Полноте, – сказала она, – ваш отец Лемуан просто фантазер. Я уже не раз подвергалась таким нападкам с его стороны. Стоит мне только нежно привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней дружеское расположение, как он тут же старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до безумия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать. Я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет за десять лье отсюда. Очень затруднительно посылать за ним; его никогда нет, когда он нужен. Но об этом мы поговорим в более подходящем месте. Вы, значит, не хотите подняться к себе?
– Нет, матушка, умоляю вас разрешить мне остаться здесь всю ночь. Если я не выполню свой долг, то не осмелюсь завтра приобщиться святых тайн со всей общиной. А вы, матушка, вы будете причащаться?
– Конечно.
– Значит, отец Лемуан ничего вам не сказал?
– Ничего. * – Почему же?
– Да потому, что у него не было повода говорить со мной об этом. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не нахожу ничего грешного в моей любви к такому прелестному ребенку, как сестра Сюзанна. Если я в чем-нибудь виновата, то только в том, что все свои чувства сосредоточила на ней одной, а должна была бы изливать их на всех без исключения сестер общины. Но это от меня не зависит, я не могу запретить себе видеть достоинства там, где они есть, и оказывать им предпочтение. Я прошу за это прощения у Господа и не понимаю, почему ваш отец Лемуан решил, что я бесповоротно проклята Богом за вполне естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься. Я стараюсь обеспечить счастье всех сестер, но есть такие, которых я больше уважаю и люблю, чем других, потому что они более достойны любви и уважения. Вот и весь мой грех. Вы находите, что он очень велик, сестра Сюзанна?
– Нет, матушка.
– Ну, тогда, дорогое дитя, прочтем каждая коротенькую молитву и подымемся к себе.
Я снова стала умолять ее разрешить мне провести ночь в церкви. Она согласилась, с условием, что это больше не повторится, и ушла.
Я стала припоминать ее слова и просила Господа просветить меня. Я крепко задумалась и, тщательно все взвесив, пришла к выводу, что люди, хотя и принадлежащие к одному полу, могут не совсем пристойно проявлять свои симпатии друг к другу, что отец Лемуан, человек непреклонных правил, возможно, допустил некоторое преувеличение, но что его совету избегать чрезмерной близости со стороны настоятельницы и самой проявлять большую сдержанность необходимо следовать, – и я дала себе в этом слово.
Утром, когда все монахини собрались в церкви, они застали меня на моем обычном месте. Они все приблизились к святому престолу во главе с настоятельницей, что окончательно убедило меня в ее невинности, не поколебав, однако, принятого мною решения. К тому же она привлекала меня в гораздо меньшей степени, чем я ее. Я не могла не сравнивать ее с моей первой настоятельницей. Какая разница между ними в отношении благочестия, серьезности, достоинства, ревностного исполнения долга, в отношении ума и любви к порядку!
За несколько следующих дней произошли два крупных события: первое-то, что я выиграла процесс против лоншанских монахинь, которых суд обязал выплачивать монастырю св. Евтропии, где я находилась, ежегодную ренту, в соответствии с моим вкладом. Вторым событием была смена духовника. Об этом мне сообщила сама настоятельница.
Тем не менее я бывала теперь у нее только в сопровождении какой-нибудь монахини, и она тоже больше не приходила ко мне одна. Она постоянно искала меня, но я ее избегала. Она это заметила и упрекала меня. Не знаю, что творилось в этой душе, но, по всей вероятности, что-то необыкновенное. Она вставала ночью и бродила по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, жалобно стонала и вздыхала. Я вся дрожала и забивалась поглубже в постель.
Днем, где бы я ни находилась-на прогулке, в мастерской или в рекреационном зале, она украдкой целыми часами пристально смотрела на меня, стараясь, чтобы я ее не заметила.
Она следила за каждым моим шагом. Когда я спускалась, то находила ее внизу лестницы; когда поднималась, она ожидала меня наверху. Однажды она остановила меня, долго смотрела, не произнося ни слова, к слезы ручьем катились из ее глаз. Вдруг, бросившись наземь сжимая руками мои колени, она воскликнула:
– Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам ее тебе, но только не избегай меня. Без тебя я не могу больше жить!..
У нее был такой вид, что мне стало жаль ее. Глаза ее погасли, она исхудала и побледнела. Это была моя настоятельница, и она была у моих ног. Она обнимала мои колени, прижималась к ним головой. Я протянула к ней руки, она схватила их и с жаром поцеловала, потом опять стала смотреть на меня. Я подняла ее. Она шаталась, ноги отказывались ей служить. Я проводила ее до кельи. Когда я открыла ей дверь, она взяла меня за руку и молча, не глядя на меня, тихонько потянула за собой.
– Нет, матушка, – сказала я ей, – я дала себе слово. Так лучше и для вас и для меня. Я занимаю слишком большое место в вашей душе, оно потеряно для Бога, а в ней должен царить он один.
– Вам ли упрекать меня в этом?..
Говоря с ней, я старалась высвободить свою руку.
– Значит, вы не зайдете?
– Нет, матушка, нет.
– Вы отказываетесь, сестра Сюзанна? Вы не знаете, к каким это может привести последствиям, нет, вы этого не знаете! Я умру из-за вас…
Последние слова возбудили во мне чувства, совершенно противоположные тем, на которые она рассчитывала. Я вырвала свою руку и убежала. Она обернулась, посмотрела мне вслед, потом возвратилась в свою келью, дверь которой оставалась открытой; раздались раздирающие душу стоны. Я их услышала. Они глубоко меня тронули. Минуту я колебалась, не зная, на что решиться-уйти или вернуться к ней. Однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя мне и больно было оставлять ее в таком состоянии: ведь по природе я очень отзывчива. Я заперлась в своей келье, мне было очень не по себе, я исходила ее вдоль и поперек, смущенная, растерянная, не зная, чем заняться. Я вышла, снова вернулась к себе и наконец решила постучаться к сестре Терезе, моей соседке. Она была поглощена беседой с другой молоденькой монахиней, своей подругой.
– Сестрица, – обратилась я к ней, – я очень сожалею, что приходится прервать вас, но прошу уделить мне несколько минут, мне нужно кое-что сказать вам.
Она последовала за мной в мою келью.
– Не знаю, что с нашей матерью-настоятельницей, – сказала я ей, – но она очень сокрушается. Пойдите к ней; быть может, вы ее утешите…
Тереза ничего мне не ответила, оставила подругу у себя в келье, закрыла за собой дверь и побежала к настоятельнице.
Между тем состояние этой женщины ухудшалось со дня на день, она стала задумчивой и печальной. Веселью, не прекращавшемуся со дня моего прибытия в монастырь, сразу наступил конец. Все подчинилось самому строгому порядку: церковные службы совершались с подобающей торжественностью, посетители почти не допускались в приемную, монахиням запретили посещать друг друга; обряды выполнялись с самой неукоснительной точностью; монахини больше не собирались у настоятельницы, не лакомились у нее.
Малейшие проступки сурово карались. Иногда кое-кто еще обращался ко мне, чтобы добиться прощения ноя наотрез отказывалась вступаться за провинившихся. Причина этой резкой перемены ни для кого не составляла тайны; старые монахини об этом не жалели, но молодые были в отчаянии. Они стали относиться ко мне враждебно, но я, убежденная в своей правоте не обращала внимания на их недовольство и упреки.
Что касается настоятельницы, страданий которой я не могла облегчить, хотя всем сердцем ее жалела, то она от меланхолии перешла к благочестию, а от благочестия к бреду. Не стану описывать все перипетии ее болезненного состояния, – я потонула бы в бесконечных подробностях. Скажу только, что в начале своей болезни она то искала, то избегала меня. Иногда она относилась ко мне и к остальным с привычной ей мягкостью, иногда же внезапно переходила к безграничной строгости; она вызывала нас к себе и тотчас отсылала обратно; предоставляла досуг, а минутой позже отменяла свои распоряжения, вызывала нас в церковь, и когда все, повинуясь ей, приходило в движение, снова ударял колокол, приглашая нас разойтись по своим кельям. Трудно представить себе царивший у нас хаос: день проходил в том, что мы то покидали свои кельи, то возвращались в них, то брались за требник, то откладывали его в сторону, ходили по лестницам вверх и вниз, опускали и поднимали покрывала. Ночь была почти такой же беспокойной, как день.
Некоторые монахини обращались ко мне и намекали на то, что при большей снисходительности и внимании с моей стороны к настоятельнице все вернется, к обычному порядку-следовало бы сказать, к обычному беспорядку.