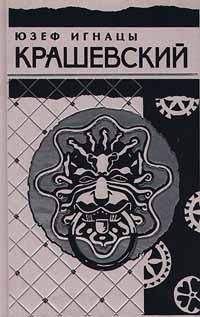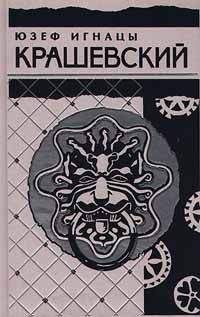Юзеф Крашевский - Дневник Серафины
Придворная жизнь с ее мишурным блеском никогда меня особенно не прельщала, но в последнее время, признаться, она возбуждает мое любопытство.
Барон, словно отгадав мои мысли, без устали рассказывает о придворных празднествах, торжественных церемониях, о почете, которым окружена эта стариннейшая европейская династия; о совершенно особом мире и его избранниках, с благочестием исполняющих свою великую миссию. «Хоть бы издали увидеть все эти чудеса!» — обмолвилась я как-то. Если я приеду в Вену, сказал он, для него не составит никакого труда представить меня ко двору и снабжать пригласительными билетами на балы, рауты и прочие придворные увеселения.
Наконец из Парижа почтой прислали платья. Что за прелесть!..
В них есть неподражаемое изящество, которое выдает истинного мастера своего дела. Посмотришь: вроде бы ничего особенного — так, хламида, но сколько вкуса, оригинальности в самой обыкновенной, казалось бы, оборке, наконец, в какой-нибудь пуговке… Они созданы словно по волшебному мановению, в то время как изделия наших портных несут на себе печать мучительных усилий, следы обильного пота, они — плод тупой и бескрылой мысли.
Ах, что за чудо сочетание лилового с серым!.. Я послала за Юзей, — мне хотелось, чтобы она полюбовалась этими шедеврами. Юзя, опустившись на колени и воздев руки, замерла от восторга.
Да, только парижский faiseur[66] способен создать нечто подобное!..
Тут вошел папа и тоже похвалил платья, а у него ведь бездна вкуса.
— А представь себе, как эффектно будет выглядеть рядом с таким платьем черный фрак в орденах, звездах и прочих регалиях, — обронил он как бы невзначай и засмеялся.
Юзя с недоумением посмотрела на меня, а я передернула плечами.
7 ноября
Пришел папа с сияющим лицом и торжественно объявил, что Молачек признался в своем чувстве ко мне и просил его осведомиться, может ли он рассчитывать на мою благосклонность.
Не в силах вымолвить слова, я упала в кресло: мной овладел гнев и одновременно растерянность.
— Дорогой папа, я уже много раз тебе говорила, что не собираюсь выходить замуж, — сказала я.
— Propos de jeune veuve![67] — ответил он. — Знакомая песня!
— Тебе прекрасно известно: выйдя замуж, я лишусь пенсиона, который обеспечивает нам безбедное существование.
— Думаю, что не лишишься, — отвечал папа, — но об этом можно переговорить с советником.
— Барон к тому же далеко уже не молод, — заметила я.
— У него представительная внешность, он мил в обхождении и принадлежит к разряду мужчин, которые с возрастом почти не меняются. Кроме того, он обладает неоценимыми преимуществами: знанием жизни, тактом, положением в обществе. Ты будешь представлена ко двору, а я…
Тут я невольно улыбнулась, и папа на меня обиделся.
— Ты считаешь меня за эгоиста, — сказал он. — А я пекусь лишь о твоем счастье. Но ты не ценишь мою заботу и судишь обо мне превратно.
Он торопит меня с ответом, и я с трудом упросила его сослаться на то, что ему не представился подходящий случай поговорить со мной.
У меня разболелась голова; я растерянна, сердита на отца и не знаю, что делать…
Никаких чувств к барону я не питаю, и такая ли уж честь быть его супругой, чтобы ради этого пожертвовать свободой? Несмотря на обходительность и недюжинный ум, его непроницаемое лицо, молчаливость и скрытность внушают мне страх. Вообще он для меня абсолютная загадка. Ни мне, ни папе не известно его прошлое, да и никто о нем толком ничего не знает. Родных у него нет, он сам не скрывает этого. А фамилия и титул ни о чем еще не говорят. К чему, спрашивается, связывать свою жизнь с каким-то инкогнито?
Вечером пришел папа, рассчитывая получить ответ. Мне захотелось съездить в Сулимов, повидаться с мамой… Правда, на ее совет полагаться сейчас не стоит. Но, может, я застану там тетю (она, кажется, поехала туда), а значит, и ротмистра. Во всяком случае, удастся протянуть время… Я распорядилась, чтобы завтра утром подали почтовую карету.
9 ноября
Измученная ездой по тряской дороге и тревожными мыслями, я прибыла наконец на место.
Все мое прошлое предстало передо мной. В Сулимове, с тех пор как я была тут в последний раз, ничего не изменилось. Мама почти не выходит из спальни.
Первой навстречу мне выбежала Пильская: никак не могу заставить себя называть ее по имени.
— Какая дорогая гостья к нам пожаловала! — восклицала она, плача и целуя мне руки.
Прежде такая занятная и бойкая говорунья Пилюся заметно постарела и как-то сникла, но доброго отношения ко мне не переменила.
В гостиной я застала тетю и ротмистра, — мама молилась у себя в комнате.
Когда меня ввели к ней, я была поражена: до чего она постарела и опустилась! Она бесконечно обрадовалась, тронутая памятью о ней. И я не решилась сказать ей, что привело меня в Сулимов.
Вечером я во всем открылась тете. Она выслушала меня с недоумением; казалось, мой рассказ огорчил ее.
— Ты меня просто удивляешь, — сказала она, когда я кончила, — зачем тебе — свободной, обеспеченной, о таком счастье только мечтать может любая женщина, понадобилось выходить замуж? Надевать на себя ярмо брачной жизни, причем не любя? Если тебе непременно хочется совершить этот неразумный поступок, о котором ты потом пожалеешь, не спеши, по крайней мере. Ты совсем еще молодая! Успеешь выйти замуж, когда появятся первые морщинки. Поверь моему опыту. Возьми, к примеру, меня: ротмистр любит меня, я тоже к нему привязана и не скрываю этого, но, entre nous[68], если бы судьбе угодно было, чтобы он стал моим мужем, уверяю тебя, мы через два месяца опостылели бы друг другу.
Такова ее жизненная философия. О бароне ей ничего не известно, но завтра она выспросит у ротмистра, который со всеми знаком и обо всех все знает.
10 ноября
Утром я рассказала про барона маме. Она сначала расспросила, каков он из себя, и мне пришлось подробнейшим образом описывать его наружность. В общем она настроена скорей против, он не внушает ей доверия, особенно его фамилия на «ачек». В самом деле, «Молачек» звучит чудовищно! Какой-нибудь Берг или Штейн хоть не режет слух, а с «фон» и совсем хорошо. Он небось и не дворянин, а канцелярская крыса, — выбился в люди крючкотворством и титул заслужил.
Все вместе взятое вызывает у мамы подозрение.
— Темная личность, — сказала она в заключение. — Сразу видно, дело рук твоего отца, — его провести ничего не стоит…
Я не возражала. Тут пришла тетя и предложила призвать на семейный совет ротмистра, с которым предварительно уже переговорила. Признаться, присутствие постороннего человека казалось мне не совсем уместным, но, с другой стороны, было любопытно услышать, что он скажет.
Ротмистр вошел с развязной улыбкой и уставился на меня.
— Вы желаете знать, что из себя представляет Молачек? — спросил он. — Одно только могу сказать: с тех пор как он несколько лет назад поселился в наших краях, с ним все знакомы, но никто о нем ничего не знает. Откуда он приехал, неведомо, родни у него нет, прошлое окутано мраком неизвестности. Говорить о себе он избегает. Тут что-то нечисто.
— А его положение при дворе? — перебила я. — Баронский титул, звание конюшего?
— Это еще ничего не доказывает, — с усмешкой сказал ротмистр. — И пришедшая в негодность пилка для ногтей, если приделать новую ручку, годится в дело, так и правительство не брезгует ничем для достижения своих целей. Случается, отъявленный негодяй — полицейский — получает в дар кусок savonnette[69], чтобы отмыться. Кто может знать, за какие заслуги получил он баронский титул? Молачек человек очень ловкий, он — политик, но не в том смысле, в каком в старой Польше называли политических деятелей, а в смысле умения лавировать.
— Вы с ним знакомы?
— Встречался не раз в обществе… У наместника его принимают с холодной любезностью, — так у нас относятся или к людям сомнительного происхождения, или к эмигрантам: им, даже если они получили австро-венгерское подданство, все равно не прощается первородный грех.
Ротмистр долго еще разглагольствовал, но то были лишь его домыслы. Я больше не возвращалась к этому разговору, понимая его полную бессмысленность. Но мама с тетей не оставляли эту тему, стараясь выведать мое мнение. Ясно одно: они не одобряют меня.
Может, если бы они не отговаривали меня, я из духа противоречия передумала бы, поостереглась, а так они только подлили масла в огонь, и в глубине души я укрепилась в своем решении.
Наверно, и папа тоже повлиял на меня, пробудив если не честолюбие, то любопытство…
Перед самым моим отъездом, как видно, желая выставить своего приятеля в выгодном свете, папа сообщил мне забавную вещь: будто бы Молачек признался ему, что не ревнив.