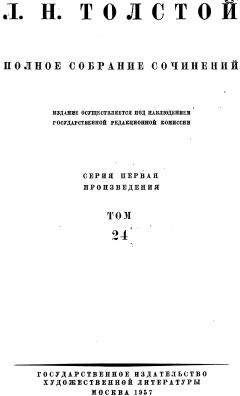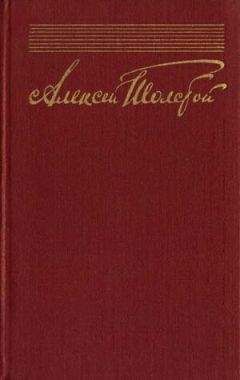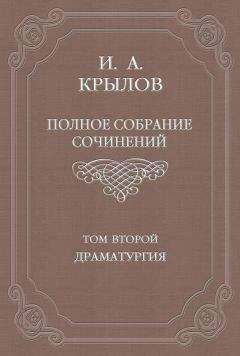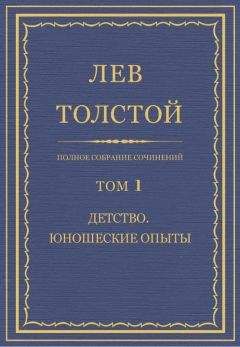Толстой Л.Н. - Полное собрание сочинений. Том 1
— Успокойся, мой другъ, я сдѣлаю все, что ты хочешь, какъ ни больно мнѣ это будетъ.
— Сколько разъ просила я тебя просить Государя объ узаконеніи нашихъ дѣтей, или сдѣлать сдѣлку съ Княземъ. Ты не соглашаешься на это. Я знаю отъ чего. Опять отъ того, что ты благороденъ и деликатенъ, но ты не знаешь того чувства матери и того страху сдѣлать несчастіе дѣтей, который заставляетъ меня говорить вѣщи, о которыхъ больно вспоминать, о которыхъ я не думала, но чувствую, и о которыхъ ты никогда не думалъ. Я твоя жена передъ Богомъ, но тебѣ больно сказать передъ всѣми, что связь наша незаконная; ты боишься оскорбить меня, говоря и напоминая объ этомъ. Ты ошибаешься, твое благородство ввело тебя въ ошибку. Мнѣ легче слышать, когда ты говоришь прямо, откровенно обо мнѣ и моей страсти, чѣмъ когда ты говоришь такъ, что я вижу, ты боишься затронуть нѣкоторыя струны, какъ будто они постыдныя. Я давно уже дала себѣ и Богу отчетъ въ своемъ поступкѣ, [24] я ничего не боюсь! Проси Государя узаконить дѣтей, говори прямо обо мнѣ — мнѣ легче будетъ. — Да, Alexandre, теперь только, когда я начинаю предвидѣть участь моихъ дѣтей, я начинаю раскаиваться. —
И Maman заплакала, ей больно было, что она увлеклась и невольно оскорбила отца. Онъ тоже былъ растроганъ, слезы были у него на глазахъ.
— Какъ можетъ раскаиваться ангелъ, прости меня. Приказывай мнѣ, и я буду исполнять. — Это были только слова. — Но maman уже перешла отъ настроенности высокаго материнскаго чувства къ исключительному чувству любви къ одному человѣку. Отецъ просилъ простить его, ежели онъ виноватъ; обѣщалъ исполнить все, ежели будетъ возможно; увѣрялъ въ, любви, просилъ забыть этотъ тяжелый для него разговоръ. Нарисовалъ ей блестящую картину нашей молодости въ его духѣ, говорилъ, что перемѣнить теперь этаго невозможно, но что, бывши въ Москвѣ, онъ будетъ хлопотать о узаконеніи насъ, возвратившись, возьметъ отъ нее вексель (онъ надѣялся выиграть довольно, чтобы отъ себя дать намъ достаточный капиталъ). Maman не имѣла, какъ я говорилъ, силы возвратится къ прежнему разговору и ослабѣла подъ припадкомъ нѣжности. Судьба наша осталась въ рукахъ отца, котораго рѣшеніе зависѣло отъ хорошей или дурной вены два вечера въ клу[бѣ].
Долго еще сидѣли мы наверху, долго безсмысленно [25] смотрѣлъ я въ книгу діалоговъ. Карлъ Иванычъ былъ такъ взвинченъ, что и рѣшительно, кажется, никогда не хотѣлъ кончить несноснаго класса. Онъ безпрестанно сердился, сморкался, бѣгалъ к Н[иколаю] Д. жаловаться на всѣхъ и на все и даже зажмуривалъ глаза, когда мы ему говорили наши уроки, что было всегда признакомъ очень дурнымъ для насъ.
Онъ даже сказалъ, что мы не дѣти, a медвѣди, и что такихъ дѣтей ни въ Саксоніи, гдѣ онъ жилъ у богатаго отца, который былъ арендаторомъ, ни у Енералъ-Спазинъ, [у]кого онъ жилъ не такъ, какъ у насъ — не какъ учитель, а какъ другъ, въ доказательство чего онъ приводилъ то, что Генералъ ничего не предпринималъ, не посовѣтовавшись съ нимъ. О причинахъ же, которыя заставили его оставить счастливую жизнь въ Саксоніи и у Спазина, онъ умалчивалъ. Впрочемъ, заключилъ онъ, когда совѣсть чиста, то нечего бояться, и что онъ не ожидалъ благодарности никогда и знаетъ очень хорошо, чьи это все штуки (Мими). Онъ желалъ счастья этимъ людямъ, ему же было все равно, и онъ полу-отчаяннымъ полу-грустнымъ жестомъ показывалъ, что онъ многое бы могъ сказать, но не стоитъ того.
Уже было безъ четверти часъ (а въ часъ ровно садились обѣдать). Карлъ Иванычъ не одѣвался, и не по чему рѣшительно нельзя было замѣтить, что онъ скоро намѣренъ кончить. Изъ буфета долеталъ уже до насъ стукъ тарелокъ. Я слышалъ, какъ папа велѣлъ давать одѣваться. Видѣлъ, какъ прошла дворовая женщина мыть тарелки. Слышалъ, какъ въ столовой [26] раздвигали столъ и уставляли стулья. Скоро, скоро позовутъ насъ. Одно только можетъ задержать. Я видѣлъ, какъ послѣ разговору въ кабинетѣ maman, Мими, Любочка и Юзинька пошли въ садъ и не ворочались. Но вотъ, кажется, виднѣются ихъ зонтики. Нѣтъ, это Мими съ дѣвочками. Ахъ! да вонъ и Maman идетъ. Какъ она тихо идетъ и какая грустная, голубушка. Зачѣмъ она не ѣдетъ съ нами? А что, ежели мнѣ сказать папа, что я не за что безъ нее не поѣду, обнять ее и сказать: «Умру, папа, а съ maman не разлучусь». Вѣдь вѣрно онъ меня оставитъ, и тогда мы съ Maman и съ Любочкой будемъ всегда, всегда вмѣстѣ жить, я дома, буду учиться, буду писать братьямъ, а потомъ, когда выросту большой, дамъ Карлу Иванычу домикъ, онъ будетъ жить всегда въ Красномъ, а я поѣду служить и, когда буду генераломъ, женюсь на Юзинькѣ, привезу его родныхъ изъ Саксоніи, или нѣтъ, лучше я ему дамъ денегъ, и пускай онъ ѣдетъ. Много мечталъ я о генеральскомъ чинѣ, о Саксоніи и о любви. Maman, которая за то, что я съ ней останусь и буду генераломъ, будетъ любить больше всѣхъ братьевъ. Какое гадкое эгоистическое чувство! —
Ну сейчасъ позовутъ обѣдать. Вотъ дворецкій Фока съ салфеткой на рукѣ идетъ въ садъ искать Maman и докладывать, что кушанье готово. Какой онъ смѣшной [?] всегда въ черномъ сертукѣ, въ бѣломъ жилетѣ и плѣшивый. Какъ это онъ не видитъ maman, она на середней дорожкѣ идетъ, а онъ бѣжитъ къ оранжереѣ. Ну, наконецъ, [27] нашелъ, чуть чуть не упалъ. А вотъ и насъ идутъ звать. Слава Богу. — Я никакъ не могъ угадать однако, чьи были шаги, которые приближались по лѣстницѣ. Уже не говоря о братьяхъ, я по походкѣ могу узнавать всю прислугу. Мы всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на дверь, въ которой наконецъ показалась совершенно незнакомая намъ фигура. Это былъ человѣкъ огромнаго роста съ длинными, но рѣдкими, полусѣ дыми волосами, съ широкимъ, изрытымъ оспою лицомъ, съ рѣдкой сѣдой бородой, кривой на одинъ глазъ и одѣтый въ платье, между подрясникомъ и кафтаномъ, съ палкой больше своего роста въ рукѣ. — И-ихъ, птички вы мои, птички!! Самка скучаетъ, груститъ, а птички выросли, въ поле летятъ. Не видать ей птенцовъ своихъ, велики, умны стали; а коршунъ ихъ заклюетъ, бѣдняжекъ. На могилѣ камень, на сердце свинецъ. Жалко! Охъ больно, — и онъ сталъ плакать, утирая дѣйствительно падавшія слезы рукавомъ подрясника. — Голосъ его былъ грубъ и хриплъ, рѣчь безсмысленна и несвязна, но интонаціи были такъ трогательны, и безобразное лицо его принимало такое откровенно печальное выраженіе, что нельзя было смотрѣть на него и слушать безъ участія. Это былъ юродивой Гриша, который хаживалъ еще къ бабушкѣ (маменькиной матери) въ Петербургѣ и очень любилъ ее, когда она была еще малюткой и, отыскавъ ее здѣсь, пришелъ полюбоваться птенцами ея, такъ онъ поэтически называлъ насъ, дѣтей. «А ты дуракъ, вдругъ сказалъ онъ, обращаясь къ Карлу Иванычу, который въ это время одѣвался [28] и надѣвалъ помача, «хоть ты на себя ленты надѣвай, а все ты дуракъ — ты ихъ не любишь». Карлъ Иванычъ былъ въ скверномъ положеніи: сердиться на сумасшедшаго ему было совѣстно, сносить его глупыя слова ему тоже не хотѣлось.