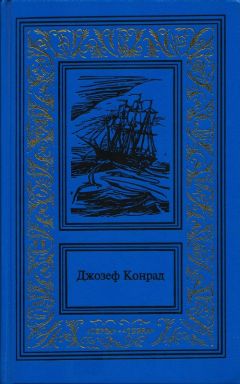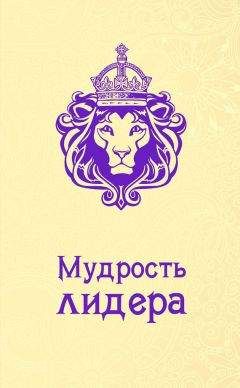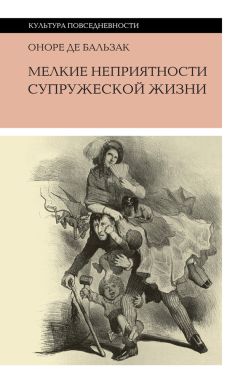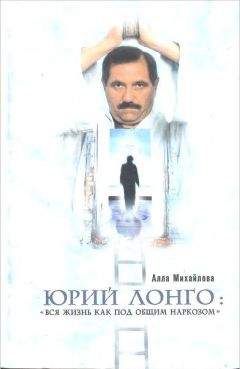Джозеф Конрад - Изгнанник
— Чего ты хочешь? Ты ничего не знаешь. Я должна… — вскричала она.
Он прервал ее.
— Я знаю достаточно.
Она приблизилась и положила обе руки ему на плечи. Озадаченный такой смелостью, он невольно замигал глазами, чувствуя какое-то волнение, пробуждавшееся в нем от ее слов и прикосновения; необычное, глубокое волнение при виде этой странной женщины, этого дикого и нежного существа, хрупкого и сильного, боязливого и решительного, роковым образом ставшего между двумя жизнями — его и того, другого белого, того гнусного негодяя.
— Как можешь ты знать… — продолжала она таким убедительным тоном, что, казалось, слова ее лились из самой глубины ее сердца, — Как можешь ты знать? Я живу с ним днем и ночью. Я смотрю на него: я слышу каждое его дыхание, слышу каждый его взгляд, каждое движение губ. Я ничего другого не вижу! И даже я не понимаю его. Его! Мою жизнь! Его, который для меня так велик, что его присутствие затмевает сушу и воду и моих глазах.
Лингард стоял, выпрямившись во весь рост, глубоко засунув руки в карманы куртки. Глаза его быстро мигали, так как она говорила очень близко от его лица. Она волновала его, и он чувствовал, что делает усилие, чтобы понять смысл ее слов, сознавая в то же время, что все это ни к чему не приведет.
— Было время, когда я понимала его, — продолжала она. — Когда я лучше его самого знала, чего он хочет. Когда я его чувствовала, держала его… а теперь он исчез.
— Исчез? Как? Убежал? — воскликнул Лингард.
— Исчез для меня, — сказала она, — оставил меня одну. Одну, а я все время около него. И все же одна.
Руки ее соскользнули с плеч Лингарда и безжизненно повисли, как будто ей открылась вдруг в эту минуту ужасающая правда нашего одиночества, непроницаемого, ускользающего и вечного; одиночества, которое окутывает душу каждого человека от колыбели до могилы и, быть может, и за ее пределами.
— А, понимаю. Он отвернулся от тебя, — сказал Лингард. — Ну, чего ж ты хочешь?
— Я хочу, я искала помощи… везде… против людей. Сперва пришли они, невидимые белые, которые несли смерть издалека… а затем он. Он пришел ко мне, когда я была одинока и грустна. Он сердился на своих братьев; он был велик между своими. Сердился на людей, которых я никогда не видела, на тех, среди которых мужчины не знают пощады, а женщины — стыда. Он был одним из них и велик между ними. Ведь он был велик?
Лингард отрицательно покачал головой. Она нахмурилась и торопливо продолжала:
— Слушай. Я увидела его. Я жила с храбрыми людьми… вождями. Когда он пришел, я была дочерью нищего, слепого. Он заговорил со мной, как будто я была светлее солнца, отраднее прохладной воды ручья, у которого мы встретились… говорю тебе, я была всем для него. Я это знаю! Я это видела! Иногда даже вы, белые люди, говорите правду. Я видела его глаза. Я видела, как он дрожал, когда я приближалась, когда я говорила… касалась его. Взгляни на меня! Ты был молод когда-то, раджа Лаут. Взгляни на меня!
С вызывающим видом она пристально посмотрела ему в глаза и вдруг, быстро повернув голову, бросила беглый взгляд, полный смиренного страха, на высоко вздымавшийся позади нее дом, темный, запертый дом, молчаливый и неустойчивый на своих покривившихся сваях.
Лингард также взглянул на дом и с подозрительным видом посмотрел на нее:
— Если он теперь не услыхал твоего голоса, он, должно быть, уже далеко или умер, — проворчал он.
— Он там, — прошептала она, — он там. Он ждал три дня. Ждал тебя день и ночь. И я ждала с ним. Ждала, наблюдая за ним, за его лицом, глазами и губами, прислушиваясь к его словам, которых я не понимала, которые он произносил днем… и ночью, во сне. Я прислушивалась, когда он разговаривал сам с собой, на своем языке. Я хотела узнать, но не могла. Его что-то мучило. Он говорил сам с собой, не со мной. Не со мной!.. Что он говорил? Что он хотел сделать? Боялся ли он тебя… или смерти? Что было у него на сердце? Страх? Злоба?.. Какое нежелание?.. Какая печаль? Он все время говорил. А я не могла узнать. Я заговаривала с ним. Он был глух. Я следовала за ним всюду, стараясь уловить слово, которое я могла бы понять, но мысль его витала в стране его народа — далеко от меня. Когда я трогала его, он сердился, — так!
Она сделала движение, подражая человеку, грубо отталкивающему надоедливую руку, и посмотрела на Лингарда полными слез глазами.
— День и ночь я наблюдала за ним, не видя ничего. На сердце у меня было тяжело, так как дом наш посетила смерть. Я думала, что он боится. Боится тебя! Иногда и меня охватывал страх… Скажи мне, раджа Лаут, знаешь ли ты страх без голоса — страх тишины, страх, который находит на тебя, когда ничего нет вблизи, когда нет ни битвы, ни криков, ни страшных лиц, ни вооруженных рук? Страх, от которого нет избавления?
Передохнув она опять подняла глаза на недоумевавшего Лингарда и торопливо продолжала:
— Я знала, что он не будет сражаться с тобой! Раньше — давно — я два раза уходила от него, чтобы заставить его повиноваться моей воле; заставить его ударить по своему народу и стать моим, — моим! О горе, — рука его солгала, как ваши белые сердца. Она ударила, подталкиваемая мной, и… о стыд… не убила никого! Этот свирепый и лживый удар пробудил только ненависть, но не страх. Все оказалось ложью вокруг меня. Его сила — ложь. Мой народ лгал мне — и ему. И, чтобы встретить тебя, великого, у него не осталось никого, кроме меня. Меня… с моим гневом, болью и слабостью. Только меня! А он и говорить не хочет со мной. Безумец!
Она приблизилась вплотную к Лингарду с диким и скрытным видом помешанного, который хочет сообщить какую-нибудь безумную тайну, одну из тех уродливых, раздирающих, нелепых мыслей, которые, как фантастические, жестокие, печальные чудовища бродят во тьме сумасшествия. Ошеломленный Лингард смотрел на нее, не шевелясь. Она зашептала:
— Он все! Все. Он мое сердце, мой свет, мое дыхание. Уйди… Забудь его… У него нет больше ни храбрости, ни мудрости… а я потеряла свою силу… Уйди и забудь. Есть другие враги. Оставь его мне… Он был когда-то человеком… Ты слишком велик. Никто не может устоять против тебя… Я пыталась… Теперь я знаю… Я умоляю о пощаде. Оставь его мне и уходи.
Отрывочные фразы ее мольбы прерывались рыданиями, но Лингард не отводил невозмутимого взгляда от притягивавшего его к себе дома, и в душе его смешивались чувства презрения, злобы и сознания собственного превосходства, делающие человека глухим, слепым и безрассудным перед всем, что ему чуждо.
— Мне пора, — сказал он, не сводя глаз с дома, — Он сам меня позвал… Ты должна уйти. Ты не знаешь, чего ты просишь. Он конченый человек. Иди к своему народу. Покинь его. Он… — конец!
Отскочив от него, с опущенными глазами, она поднесла медленно обе руки к вискам, жестом полным бессознательного трагизма, и тихо заговорила нежным, вибрирующим тоном, как будто размышляя вслух:
— Прикажи ручью не бежать к реке; прикажи реке не нести свои волны к морю. Прикажи громко. Прикажи сердито. Может быть, они и послушаются. Но только я думаю, что ручей не станет слушать. Ручей, спускающийся со склона горы и бегущий к большой реке. Он не обратит внимания на твои слова, как и на гору, которая дала ему жизнь, на землю, из которой он пробивается, разрывая, поглощая и разрушая все, чтобы скорее бежать к реке и потеряться в ней навеки… О раджа Лаут!.. Я не слушаю.
Как бы подталкиваемая невидимой рукой, она медленно и неохотно приблизилась к Лингарду, чтобы шепнуть ему несколько слов, которые, казалось, кто-то с силой вырывал из ее груди.
— Я не пожалела даже моего отца… который умер… Я бы скорее… Ты не знаешь, что я сделала… Я…
— Я дарю тебе его жизнь, — поспешно произнес Лингард.
Они смотрели друг на друга; она, как будто сразу успокоенная, а он задумчиво и тревожно, под влиянием смутного чувства поражения. Неясный голос говорил ему, что если она свершила ради негодяя страшное преступление, до которого тот ее допустил, то он должен умереть — и это было бы только справедливо. Какую тайну хотела она открыть? Он не догадывался, но знал, что надо ее убедить, что для таких людей, как Виллемс, нет ни жалости, ни пощады.
— Пойми, — тихо сказал он, — что я дарю тебе его жизнь не как милость ему, а в наказание.
Она вздрогнула, жадно впивая в себя каждое его слово, и замерла неподвижно.
— Какое наказание? Ты хочешь его увезти? Отнять у меня? Слушай, что я сделала… Это я…
— А, — воскликнул Лингард, смотревший на дом.
— Не верьте ей, капитан Лингард, — крикнул Виллемс, появляясь на пороге, с опухшими веками и обнаженной грудью. Он постоял, ухватившись руками за косяк двери, с диким видом, точно его распяли. Затем вдруг кинулся вниз по затрещавшим дощатым сходням.
Легкая судорога пробежала по лицу Аиссы, и слова, бывшие у нее на губах, упали непроизнесенными, в ее темное сердце; упали в грязь, камни и цветы, которые есть на дне каждого сердца.