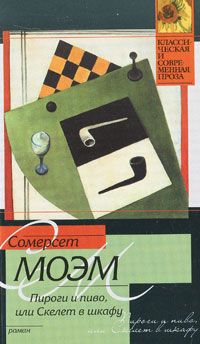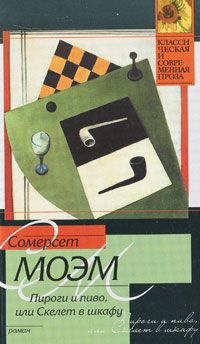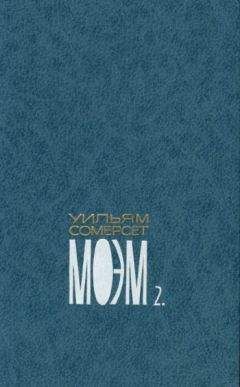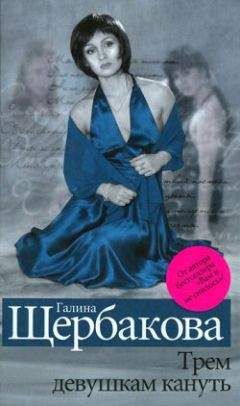Сомерсет Моэм - Пироги и пиво, или Скелет в шкафу
Мы пошли в театр. Я не слушал актеров. Я только чувствовал на своей руке прикосновение гладкого соболиного меха и видел, как ее пальцы непрерывно поглаживают муфту. С мыслью об остальных я мог примириться, но Джек Кейпер меня потряс. Как она могла? Ужасно быть бедным. Были бы у меня деньги, я бы сказал ей – отошли обратно этому типу его гнусные меха, я куплю другие, гораздо лучше! Наконец она заметила мое молчание.
– Ты сегодня что-то очень тихий.
– Разве?
– Ты себя плохо чувствуешь?
– Я чувствую себя прекрасно.
Она искоса поглядела на меня. Я отвел взгляд, но знал, что ее глаза улыбаются той самой озорной и в то же время детской улыбкой, которую я так хорошо знал. Больше она ничего не сказала. Когда спектакль кончился, шел дождь, и мы взяли извозчика. Я дал кучеру ее адрес на Лимпус-роуд. Она молчала, пока мы не доехали до Виктория-стрит, потом спросила:
– Разве ты не хочешь, чтобы я зашла к тебе?
– Что ж, если угодно.
Она приоткрыла окошечко и сказала кучеру мой адрес. Потом взяла меня за руку и не отпускала ее, но я остался холоден. С чувством уязвленного достоинства я глядел прямо в окно. Когда мы приехали на Винсент-сквер, я помог ей выйти и впустил ее в дом, не говоря ни слова. Я снял шляпу и пальто, она швырнула на диван накидку и муфту.
– Почему ты дуешься? – спросила она, подходя ко мне.
– Я не дуюсь, – отвечал я, глядя в сторону.
Она обеими руками схватила мое лицо.
– Ну почему ты такой глупый? Стоит ли злиться из-за того, что Джек Кейпер подарил мне меховую накидку? Ведь ты же не можешь такую купить, верно?
– Конечно нет.
И Тед не может. Не отказываться же мне от меховой накидки, которая стоит двести шестьдесят фунтов! Я всю жизнь о такой мечтала. А для Джека это ничего не стоит.
– Не думаешь же ты, что я поверю, будто он сделал это просто по дружбе?
– А почему бы и нет? Во всяком случае, он уехал в Амстердам, и кто знает, когда он приедет снова?
– Да он и не единственный.
Я смотрел на Рози с гневом, обидой, возмущением, а она улыбалась мне – как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки! Голос ее звучал удивительно мягко.
– Милый, ну зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной не счастлив?
– Очень.
– Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю – наслаждайся жизнью, пока можешь; через сотню лет мы все будем в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием.
Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев – я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте.
– Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, – прошептала она.
– Придется, – ответил я.
18
За все время я очень мало виделся с Дриффилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение; он уже не был тем веселым, чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах; он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Рози тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, и потом ведь не она же им нужна – им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать и ее, а уж пригласив ее приличия ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо.
Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения – не мое дело, и к тому же за последнее время о них написано столько, что этого вполне хватит для любого обычного читателя. Но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко – от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшная, душераздирающая, но описанная без всякой слюнявости и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод.
Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как и с прежними его романами: что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвальных, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но в общем неплохо. Рози рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов триста, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими; а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной; попало и выпустившим ее издателям. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь, и называла ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным; если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дриффилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение неизменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных киосков на железнодорожных станциях отказывались ее брать.
Все это, естественно, было Эдуарду Дриффилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами.
– Они говорят, что это неправда, – улыбался он. – Пусть катятся к черту – там все истинная правда.
Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верности своих друзей. Восхищаться «Чашей жизни» стало признаком эстетической проницательности; возмущаться ею – значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Траффорд без колебаний объявила книгу шедевром, и, хотя для появления статьи Бартона в «Куортерли» момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дриффилда осталась незыблемой. Сейчас странно (и поучительно) читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию: в ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам.
19
Месяцев через шесть шум, поднятый вокруг «Чаши жизни», пошел на убыль, и Дриффилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на четвертом курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали мне в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось:
«Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в пять часов. Это важно. Изабел Траффорд».
Зачем я ей понадобился? За последние два года я видел ее, может быть, раз десять, но она никогда не обращала на меня внимания, и у нее я ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин; может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их окажется меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего? Но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме.
Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в шестом часу, и мне понадобилось добрых двадцать минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Траффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уже почти шесть, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда меня провели в гостиную и я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня:
– Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки.