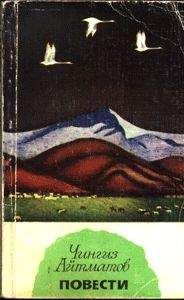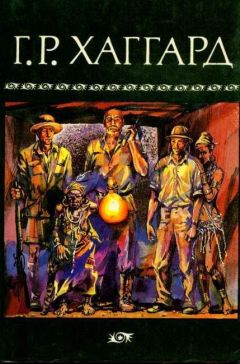Чингиз Айтматов - Прощай, Гульсары!
— Здравствуйте. — Танабай пожал им руки.
— Не узнаете, отец? — спросил приехавший с Ибраимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки.
Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то», — подумал Танабай.
— Так это же товарищ… — хотел было подсказать Ибраим.
— Постой, постой, я сам скажу, — остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.
Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.
— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керимбеков Ибраиму.
Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:
— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.
Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели у реки.
— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам, — начал разговор Керимбеков. — Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит, здоровье в порядке. Этому я рад.
— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.
— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас вы сами знаете, многое изменилось. Многое уже пошло на лад.
— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то бог и дальше так.
— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще, как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.
— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Танабай секретаря райкома. — Спасибо, что не забыл старика. — И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.
Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.
Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.
Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с едкой печалью подумал Танабай.
Он представлял себе, как задыхался конь в пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было изрядное. — Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.
Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!»
А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбегали мы свое, Гульсары, — говорил он. — Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее…»
А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молью хомуте, таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.
Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи в трусиках, в драной майке. Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.
— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику Танабаю. — Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.
— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.
Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но, когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.
— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.
Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня — знать, совсем уже плох», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.
— Езжай и больше не падай.
Гульсары потихоньку побрел по дороге.
И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге.
Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.
Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:
— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.
Ну и прочее в этом же духе…
Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:
— Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.
— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старого такого? — фыркнула она в ответ.
Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа сделает средним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.
Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было ему оставаться у них.
«Дура ты, дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра. — Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще, нужным буду…»
25
Открывалось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь не было нужды укрывать еще иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны господни… Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, несгибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.