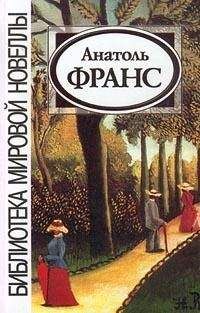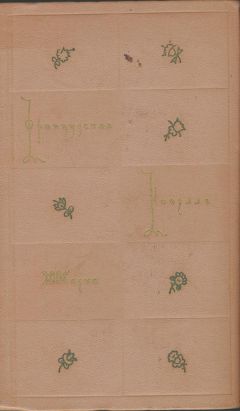Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
От вас, Кренкебиль, зависело стать самым сильным. Если, выкрикнув „Смерть коровам“, вы объявили бы себя императором, диктатором, президентом республики, пусть даже муниципальным советником, уверяю вас, я вас не присудил бы к двухнедельному заключению и пятидесяти франкам штрафа. Я освободил бы вас от всякого наказания. Можете мне поверить».
Нет сомнения, что председатель Буриш изложил бы все именно таким образом, ибо мыслит он юридически правильно и знает обязанности судейского чиновника перед обществом. Он защищает устои общества последовательно и неизменно. Правосудие — явление социальное. Только те, кто превратно мыслит, требуют от него человечности и чувствительности. Судопроизводство следует точно установленным правилам, а не сентиментальным порывам и озарениям разума. Самое главное, не ищите в нем справедливости, оно не обязано быть справедливым, поскольку является правосудием; скажу вам даже больше: мысль о справедливом правосудии могла зародиться лишь в голове анархиста. Председатель Маньо[81], надо это признать, выносит справедливые решения. Но их отменяют — это и есть правосудие.
Настоящий судья весомость свидетельских показаний определяет по весу оружия. Это вы могли видеть в деле Кренкебиля и в других более знаменитых процессах[82].
Так говорил г-н Жан Лермит, расхаживая взад и вперед по Залу потерянных шагов[83].
Мэтр Жозеф Обарре, знакомый с судебными порядками, ответил ему, почесывая кончик носа:
— Если вам угодно знать мое мнение, то мне думается, что председатель Буриш вряд ли поднимался до таких метафизических высот. По-моему, приняв показания полицейского № 64 за выражение истины, он просто сделал то, что постоянно видел в судах. В подражании надо искать причину большинства человеческих поступков. Будешь поступать как принято, прослывешь порядочным человеком. Почтенными людьми называют тех, кто ничем не выделяется.
V. О подчинении Кренкебиля законам республики
Очутившись снова в своей камере, Кренкебиль сел на прикованную к стене скамейку, преисполненный удивления и восторга. Он не знал, что судьи ошиблись. Внешнее великолепие заслонило от него внутреннюю несостоятельность судопроизводства. Ему и в голову не приходило, что прав он, а не судьи, чье представление о правоте было для него непостижимо: он не мог даже помыслить, чтобы в такой прекрасной церемонии был изъян. Ведь он не ходил к обедне, не бывал в Елисейском дворце[84] и никогда в жизни не видывал ничего прекраснее, чем суд исправительной полиции. Он очень хорошо помнил, что не кричал «Смерть коровам!» А приговор к двухнедельному тюремному заключению за эти слова был в его представлении высшей тайной, одним из тех символов веры, что слепо исповедуются верующими, некиим откровением, загадочным и ослепительным, внушающим благоговение и трепет.
Несчастный старик признавал себя виновным в том, что будто бы оскорбил полицейского № 64, также как мальчик на уроке закона божия признает себя виновным в грехе Евы. Вынесенный судом приговор гласил, что он крикнул «Смерть коровам!». Значит, он действительно крикнул «Смерть коровам!» Но каким-то таинственным, ему неведомым образом. Он оказался в мире сверхъестественного. Судебное решение было его апокалипсисом[85].
Если преступление было ему непонятно, то не более понятно было и наказание. Обвинительный приговор показался ему чем-то торжественным, религиозным и возвышенным, ослепительным и непостижимым, так что нельзя ни оспаривать его, ни хвалиться им, ни жаловаться на него. И случись ему в этот час увидеть председателя Буриша спускающимся к нему с разверзшегося потолка, с сиянием вокруг головы и с белыми крылышками, он не удивился бы этому новому проявлению судейской славы, а только подумал бы: «Мое дело все еще продолжается».
Наутро его навестил адвокат.
— Ну, как, старина? Не так уж плохо себя чувствуете? Бодрее! Две недели мигом пролетят. Особенно жаловаться не приходится.
— Да уж чего там, можно сказать господа обходительные, такие вежливые; и грубого слова не молвили. Никогда бы не поверил, А солдат белые перчатки надел. Заметили?
— Если все взвесить, вы хорошо сделали, что сознались.
— Пожалуй.
— Кренкебиль, я к вам с доброй вестью. Один благотворитель, которого мне удалось заинтересовать вашим делом, передал вам через меня пятьдесят франков, для уплаты наложенного на вас штрафа.
— А когда вы мне дадите эти пятьдесят франков?
— Я внесу их в судебную канцелярию. Не беспокойтесь.
— Ну, не беда, я все равно благодарен этому господину.
И Кренкебиль пробормотал в задумчивости:
— Что-то со мной необыкновенное приключается.
— Не надо преувеличивать, Кренкебиль. Все это далеко не редкость.
— А не скажете вы мне, куда они девали мою тележку?
VI. Кренкебиль пред лицом общественною мнения
Отбыв наказание, Кренкебиль снова шел со своей тележкой по улице Монмартр, крича: «Капуста, репа, морковь!» Он не возгордился от происшедшего с ним, но и не стыдился. Тягостных воспоминаний у него не осталось. Как будто все это было в театре, во время путешествия или во сне. Ему особенно приятно было снова ходить по слякоти, по городской мостовой и видеть над собой дождливое небо, мутное, как ручьи на улицах, славное небо родного города. Он останавливался на каждом углу пропустить стаканчик; потом легко и весело, поплевав на руки, чтобы смягчить мозоли, брался за оглобли и подталкивал тележку, а воробьи, такие же ранние птахи, как и он, также ничего не имеющие и вынужденные искать себе пропитание на мостовой, взлетали стайкой при знакомом возгласе: «Капуста, репа, морковь!» Подошедшая старушка хозяйка спрашивала, перебирая сельдерей:
— Что случилось, папаша Кренкебиль? Недели три вас не видели. Неужто были больны? Ишь как побледнели.
— Доложу вам, госпожа Майош, что я будто рантье заделался…
В его жизни ничего не переменилось, разве только стал он почаще заглядывать в кабачок: все ему кажется, что нынче праздник и знаком-то он нынче со всякими благодетелями. Навеселе возвращается он в свою каморку. Растянувшись на тюфяке, он укрывается вместо одеяла мешками, которые ему когда-то дал торговец каштанами, и размышляет: «Тюрьма… Ничего не скажешь, там недурно; все есть. Да только дома лучше».
Но радоваться ему пришлось недолго. Вскоре он заметил, что покупательницы смотрят на него косо.
— Превосходный сельдерей, госпожа Куэнтро!
— Мне ничего не надо.
— Как так ничего? Воздухом, что ли, питаетесь?
А г-жа Куэнтро, хозяйка большой булочной, не удостаивая его ответом, гордо возвращалась к себе. Лавочницы и привратницы, недавно толпившиеся у его цветущей зеленью тележки, стали отворачиваться. Подъехав к башмачной мастерской «Ангел-хранитель», где когда-то начались его злоключения, он окликнул:
— Госпожа Байар, госпожа Байар, за вами еще с того раза пятнадцать су.
Но восседавшая за прилавком г-жа Байар даже голову не удостоила повернуть.
Всей улице Монмартр было известно, что папаша Кренкебиль вышел из тюрьмы, и вся улица знать его больше не хотела. Слух о его судимости долетел и до предместья и до шумного перекрестка улицы Рише. Там, около полудня, он заметил, как г-жа Лора, его постоянная и хорошая покупательница, наклонилась над тележкой маленького Мартена и оглядывала большой кочан капусты. Ее волосы горели на солнце, словно золотые нити, уложенные большим пышным узлом. А маленький Мартен, бездельник, грязная скотина, божился, положив руку на сердце, что его товар самый лучший. У Кренкебиля сердце чуть не разорвалось от этого зрелища. Он направил свою тележку прямо на тележку Мартена и сказал г-же Лоре надтреснутым, жалобным голосом:
— Нехорошо делаете, что мне изменяете.
Госпожа Лора не родилась герцогиней, она сама это признавала. Ее представление об арестантском фургоне и тюрьме сложилось, конечно, не в светском обществе. Но порядочным человеком ведь можно быть повсюду. У каждого свое самолюбие, и кому понравится водиться с человеком, побывавшим в тюрьме? Ответила она Кренкебилю гримасой, как будто ее тошнит. И старый зеленщик, поняв, что его хотят обидеть, крикнул:
— Пошла ты, сука!
Госпожа Лора выронила свою капусту и завопила:
— Ах, вот как! Ты убирайся, старая кляча! Сам в тюрьме сидел, а еще людей оскорбляет!
Сохрани Кренкебиль хладнокровие, он никогда бы не попрекнул г-жу Лору ее профессией. Он слишком хорошо знал, что в жизни делаешь не то, что хочешь, и не сам выбираешь себе дорогу; а хорошие люди повсюду встречаются. Благоразумно следуя выработавшейся у него привычке, он никогда не интересовался домашней жизнью покупательниц и никого не презирал. Но тут он вышел из себя и трижды обозвал г-жу Лору потаскухой, стервой и девкой. Вокруг г-жи Лоры и Кренкебиля уже собрались любопытные, но те продолжали переругиваться все так же грубо и пустили бы в ход весь свой набор ругательств, не возникни перед ними полицейский, который стал как вкопанный и молчал, что сразу заставило их тоже застыть и замолчать. Все разошлись в разные стороны. Но эта ссора бесповоротно погубила репутацию Кренкебиля в предместье Монмартр и на улице Рише.