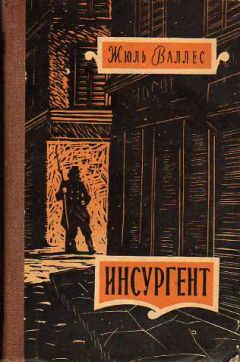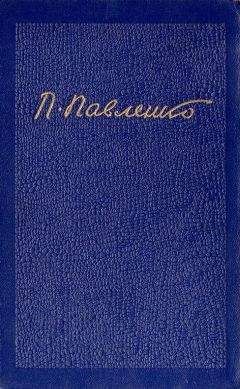Жюль Валлес - Инсургент
Но нам ничего не показали!
Зал битком набит, комиссия в полном составе. Избирается президиум. Слово предоставляется мне.
Я рассказал все, с начала до конца: как за мной явился комитет во главе с товарищем Пассдуэ, — а ведь Пассдуэ уж никто не заподозрит, не правда ли? Я как раз в это время завтракал в каком-то кабачке. Они пристали ко мне с ножом к горлу. Мне повторяли на все лады, что я, будущий историк июньских героев, обязан представлять этих побежденных перед лицом проклявших их республиканцев и показать им изувеченный труп социальной войны.
Я согласился, но заявил: «Как видите, я завтракаю за тридцать су. Я беден и не могу дать ни сантима на свои выборы».
«Один человек предложил нам деньги на плакаты», — ответил мне комитет.
«Это ваше дело», — сказал я в заключение.
— А если он все-таки был подкуплен империей?
С какой целью?.. Мы предприняли кампанию, не рассчитывая на победу. Цифровые данные убеждали нас в полном поражении.
Пятьсот голосов? Да разве мы могли получить их?
Мы получили их. Но неужели такая безделица могла помешать пройти Симону?..
И вот из-за чего я стою перед вами, обвиняемый в измене. Взгляните на меня! Разве у меня глаза продажного человека?
Нужно ли вам говорить, сколько я перестрадал за свою жизнь? Как боролся с голодом, чтобы остаться свободным?
Так неужели же после целого ряда лет такого героизма, в момент, когда оставалось только немного потерпеть, чтобы стать почти знаменитым и даже счастливым, — я отказался бы от себя, сковал бы себя цепью, продался?
Не мне говорить вам, стою ли я чего-нибудь, но разве вы не понимаете, что десятки раз уже я мог сделаться богатым, если б только захотел!
Я прекрасно знаю, что вы оправдаете меня!.. Но самый факт обвинения все равно оставит горечь в моей душе.
Моя честь?.. Она выйдет отсюда еще более незапятнанной, чем когда бы то ни было! Но моя гордость? Кто сможет омыть ее раны, извлечь из них гной, занесенный туда грязными пальцами Касса?
……………………………………
Они не дали мне кончить.
Изо всех углов зала ко мне потянулись руки. Некоторые обнимали меня; у иных были слезы на глазах.
Но что из того! В будущем всегда найдется несколько мерзавцев, которые откопают всю эту грязь и швырнут ее в меня в тот день, когда я буду обезоружен поражением, изгнанием или смертью.
XXIII
Оказывается, я ошибался, думая, что субъекты из ратуши не посмеют нас преследовать!
Они посмели.
31 октября пройдет перед судом солдафонов. Офицеры взятой в плен армии будут судить свободных людей.
Перед ними предстанут Лефрансе, Тибальди, Верморель, Везинье, Жаклар, Ранвье, а может быть, и другие, если их удастся захватить. Их проведут между двумя рядами заряженных ружей с примкнутыми штыками, готовыми пронзить их грудь при первой попытке к бегству или бунту.
Их посадят на скамью, узкую и жесткую, как школьная парта, засунут между столом и старой печкой так, что не видно будет даже их голов, — голов, в которые целятся статьи кровавого кодекса.
Но я знаю, что на этот раз на карту не поставлены ни их головы, ни даже их свобода. Кто, имеющий сердце, решится осудить их?
Осудить за то, что, видя, как корабль несется на рифы, они кинулись к капитану и закричали:
— Франция идет ко дну! Дайте сигнал тревоги!
Их осудить!! Почему бы их тогда не отхлестать треуголкой Трошю, не проткнуть шпагой Базена?
Но это не все. На этой неделе полиции хватит работы, и прокурору Республики придется только поспевать с обвинительными заключениями.
Они будут судить также клочок бумаги, называемый «Красная афиша»[160]. Она была расклеена на стенах в тот момент, когда не хватало хлеба и снаряды сыпались дождем.
Ну и задало оно нам жару, это воззвание... Вайяну, Леверде, Тридону * и мне.
На заседании 5 января Ла-Кордери поручила нам стать выразителями общей мысли.
Было условлено, что к десяти часам утра следующего дня мы приготовим прокламацию, и если собрание одобрит ее, то она удостоится чести быть расклеенной в ту же ночь во всех предместьях Парижа.
Но надо было составить ее.
Надо было выразить волю народа его простым и вместе с тем мощным языком. Народ брал слово перед лицом истории, в разгар самого страшного из ураганов, под огнем неприятеля. Нужно было думать одновременно и о родине и о революции.
И вот четверо литераторов, запершись в маленькой комнатушке на улице Сен-Жак, ломали себе голову над каждой новой строчкой, выходившей из-под их пера, боясь впасть в пошлость или декламацию.
Нам было стыдно перед самими собой, и каждый удар стенных часов мучительно отдавался в нашем мозгу.
Наконец к пяти часам утра наша трудная работа была на три четверти сделана.
Тридон[161] — совсем больной, обреченный на смерть пожиравшей его болезнью, — предложил немного вздремнуть, с тем чтобы потом снова взяться за дело.
Мы растянулись с ним вдвоем на импровизированном ложе, но вскоре я оставил его, чтобы предоставить ему больше места. Бедняга: на шее — корпия, на теле — лохмотья... Он закутался в единственное оставшееся нам одеяло; другое взяли товарищи.
Тело его было уже в агонии, но мысль оставалась сильной и ясной.
Когда мы встали, мы услышали непривычную по силе пушечную канонаду. Это началась бомбардировка.
А наш манифест застыл на месте... оцепенел, как и мы.
Трудно передать наше отчаяние: мы боялись оказаться недостойными наших товарищей; а новые ядра свистели нам в уши, как недовольная публика в театре.
Недоставало одной, только одной фразы, но такой, где трепетала бы душа Парижа; Париж тоже должен был сказать свое слово, чтобы занять место в будущем.
Мы поплелись в Ла-Кордери, так и не закончив воззвания и не только не думая об опасности, а скорее даже с тайным желанием быть убитыми в пути.
Но вот при одном особенно сильном залпе Тридон встряхнулся, наморщил брови и, глядя на небо, бросил в морозный воздух одно слово, одну фразу.
Он нашел!..
Прокламация, прочитанная среди торжественного молчания, была покрыта аплодисментами.
«Дорогу народу! Место Коммуне!» — так кончалась она.
Вот эту-то прокламацию они и собираются преследовать судом. А между тем она не являлась призывом к восстанию; это был крик, вырвавшийся из наболевших сердец, и скорее крик отчаяния, чем крик негодования.
Подписавшие ее были арестованы, но толпа, с барабанщиком во главе, открыла им двери мазасской тюрьмы. И вот теперь судебный пристав из Шерш-Миди[162] вызывает их.
Господа из ратуши хорошо помнят этот плакат, хотя за это время утекло немало и грязи капитуляции, и крови 22 января...[163]
Но 22 января тоже предстанет перед судом. Они хотят сделать из него преступный день.
Но кто же был преступником?..
Бедный Сапиа![164] Сраженный, он упал с дешевой тросточкой в руках. Он кричал: «Вперед!» — но у него не было ни сабли, ни ружья.
Не стрелял, конечно, и поднятый мертвым девятилетний ребенок; так же, как и старик, чьи мозги брызнули на фонарь: в его кармане нашли молитвенник, а не бомбу.
Сколько невинных убито 22 января!
Те, кто не мог достаточно быстро бежать, прятались за кучами песку или, скорчившись, ложились позади сваленных фонарей в грязи по самые уши.
Время от времени один из этих притаившихся отделялся от кровавой груды и полз на животе в более надежный уголок... Но вдруг останавливался и не двигался уж больше. А на боку у него можно было разглядеть алое пятно, — точно отверстие в бочке с красным вином.
Среди тех, кого приведут завтра жандармы, есть и такие, что явились тогда лишь для того, чтобы поднять раненых или прикрыть своим носовым платком обезображенные лица мертвецов.
Жестокие, бестактные люди, стоящие у власти, не поняли, что им тоже лучше было бы поступить по их примеру и набросить на эти страшные дни покров забвения.
8 мартаСуд над 31 октября свершился!
Трибунал из солдат оправдал большинство из тех, кто согласно договору, заключенному в ту зловеще закончившуюся ночь, вовсе и не должен был бы подлежать ни аресту, ни преследованию.
Шпага военного суда пригвоздила клятвопреступников из ратуши к позорному столбу истории.
На скамье подсудимых остались только Гупиль[165], я и еще несколько человек, привлеченных к ответственности за действия, не предусмотренные соглашением.
«Красное воззвание» тоже вышло победителем на судебном разбирательстве.