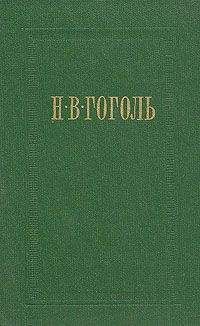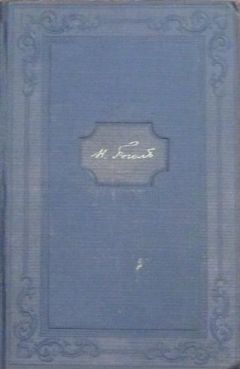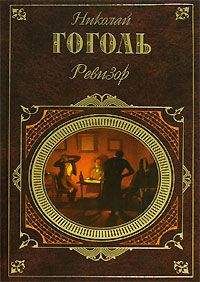Оскар Уайльд - Портрет Дориана Грея
Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.
Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены Страсти Господни и Распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узором из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.
Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам повесил на стену роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт-Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.
Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.
Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет, — так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, — разве кто поверит?
И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме на Ноттингемшайре принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?
Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вестэндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчиллклуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.
Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.
Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.
Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и опасного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценят гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, — самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразие человеческой личности.
Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.
Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?
А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?
Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.
Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса.