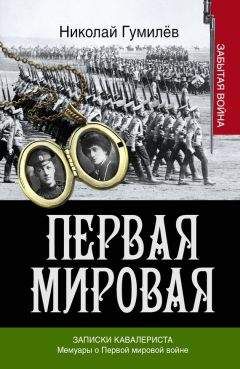Лев Рубинштейн - Альпинист в седле с пистолетом в кармане
Но… ни сна, ни отдыха (душа, правда, ликовала); мы вышли к железной дороге Тосно — Любань и сообщили в сводке: 1-я ОГСБ оседлала железную дорогу. От железной дороги и звания ее железного не осталось, и вид перестал светиться на фоне еще живого леса. Рельсы давно увезены в Германию, полотно взорвано на каждых ста метрах, дабы не сложилось оно в шоссе, оставшись желтой полосой в брошенных болотах, для преследующих и догоняющих.
Мы оседлали! Мы сели в седло. Альпинист в седле, так я думал о себе. Да, Паршиков признал меня военным, я сел в седло военной науки. Оставив свой броневик начальнику тыла, пополз по насыпи к 1-му батальону, у которого опять убило комбата.
Мы наступаем на Любань. Мне попался серьезный конь, выбивающий своей тяжелой рысью из седла, но Паршиков посадил меня в это седло, а до него я, как бес из сказки о Балде, пытался подлезть под коня и тащить на себе и коня и седло.
Пусть простит меня замечательный офицер Паршиков. Я, к стыду, забыл его имя и отчество. С ним я получил вкус к войне. Он, может быть, и не заметил своей великой роли. С ним мы взяли Любань, потом Новгород и много малых городков и деревень нашего Севера.
За Новгородом опять пошли по р. Шелони к г. Сольцы, повторив начало конца. До Сольцов оставалось совсем немного, когда получили команду: «Стоп». Конец пути. Опять мы были у деревни Теребутицы.
Наше соединение — 1-ю отдельную горнострелковую приказали расформировать. Лишили формы. Знамя отправили на вечное хранение в Музей Красной Армии. Части роздали в другие дивизии, а нас стерли с лица войны. Кто ее формировал? Командир бригады полковник Грибов И. В. Кто ее расформировывал? Я. Начальник оперативного отделения капитан Рубинштейн (я уже был майором, но еще об этом не знал). Поразительно! Родилась бригада в деревне Теребутицы и умирать пришла в ту же деревню. Говорят, звери приходят умирать на родину. Так и наша бригада. Деревня Теребутицы после всех наступлений и отступлений перестала существовать, и только поэтому, видимо, мы разместились в соседней деревне Любыни. Любынь, какое название, какое звание!
Всякое дело делает кто-то впервые, и я делал впервые. И возможно, поэтому интенданты успели распродать соседнему населению все, что носилось, таскалось, возилось из солдатской одежды. Лихо шли у них стоптанные ботинки, застиранные гимнастерки и штаны, не говоря уже о шинелях и полушубках. Когда я вник, оставалось всего ничего. Зато самогоном — горилкой они заполнили все емкости. Не будем вдаваться в детали. Интенданты и у Наполеона были интендантами. Возвратимся к другим лицам, играющим роли.
Мой возлюбленный командир бригады полковник Паршиков собирался покидать Любынь. Его отзывали в штаб армии за новым назначением. Он как-то мимолетно сказал о том, что взял бы меня с собою, будь у него твердо назначенная должность, но едет в резерв и нынче может взять с собою лишь своего деньщика рядового Пашку. А меня назначает своим заместителем по расформированию бригады.
Существовал непризнанный обычай брать в новое назначение несколько человек, с которыми хорошо работалось, жаль было расставаться с таким славным начальником, но…
Итак, я поместился в избе молодой учительницы Августы и ее престарелых родителей деда и бабки Петровых и стал расформировываться. Изба Гули, разделенная на два придела, состояла из кухни с огромной печью, на которой спали дед и бабка — родители Гули, и залы, где на скамейках и сундуках спали несколько офицеров, и я в том числе.
Сколько нас было и кто, точно не помню. Могу сказать лишь об одном. Был там Пашка, называвший себя адъютантом, но бывший деньщиком. Фамилии его тоже не помню. Невысокого роста, балагур, быстрый, складный, беленький, почти мальчишка. Он не был офицером, но как ординарец командира бригады одет был лучше всех. У него всегда было и выпить, и закусить, и покурить, и лошадь, и все другое. Полковник Паршиков не имел положенного ему адъютанта-офицера. Пашка был у него человеком «за все» и пользовался своими (или не своими) правами. Он был вполне разумным, знал, с кем и как себя держать и, как все лакеи, уважал тех, кого уважал хозяин, поэтому со мной был в дружбе, и от этого всем было хорошо.
ГУЛЯ
Часть нашей залы была отделена ситцевой, синей в цветочек, занавеской на проволоке. За этой занавеской спала Гуля со своей маленькой дочкой Саней. Девочке было около года или немного более. Муж Гули не то умер, не то был убит (точно не помню).
В первую же по поселению ночь все лежавшие в зале (спать мы, конечно, не смогли) были соучастниками деликатных событий. Пашка, как только был погашен свет, ринулся проскользить (другого слова не подобрать) за занавеску. Гуля — высокая, стройная, черноволосая, но очень милая деревенская женщина лет двадцати трех — двадцати пяти, настоящая деревенская учительница, плакала и просила его уйти — «Я не хочу, разбудишь девочку» — и еще что-то. Он довольно громко говорил: «Не плачь, а то разбудишь всех офицеров», и пытался подлечь к ней. Она стала плакать еще громче, и ему пришлось удалиться, уже не проскальзывая, а нагло топая, как победитель или разочарованный (не понравилось!).
Утром он говорил: «С дурой связываться», и другое. Прошло несколько дней. Паршиков получил вызов и уехал с Пашкой. Все другие офицеры тоже ушли в резерв штаба армии. Я остался старшим расформировщиком бригады и одним постояльцем. В «зале» теперь спал я на сундуках, а Гуля за синей занавеской.
Сказать «спал» — это сказать не очень точно. Я вертелся на своих сундуках, как змея, которой наступили на голову. От милой, славной, молодой деревенской мадонны меня отделяла тонкая ничтожная преграда. А шел четвертый год войны, и мне было под тридцать, и вы меня поймете. Она, думал я, лежит там в одной рубашечке. Грубой, холщевой, но чистенькой, и пахнет женщиной прелестно. Но! Она прогнала Пашку … это раз! Два — она стеснялась офицеров, а теперь их нет, и мы с нею одни, и может быть?.. Долго я решался, но в таких дела всегда берет верх самое зловредное побуждение.
И я пошел босиком по холодному, почти ледяному полу к синей занавеске.
Под одеяло она меня не пустила. Опять сказала: «Мы разбудим Саню», и это было уже совсем другое. Не вы разбудите Саню, а мы разбудим, и потом, тихо … иди, я сама приду. О! Какие это были слова. Какая музыка в них звучала. Сама приду. Не разрешаю, не согласна, а сама приду!!!
Конечно, думал я, еще раньше, когда только рождалась надежда, — я не Пашка — рядовой шибздик, а капитан, высокий и стройный.
В ушах звенело: «Сама приду», и я быстренько пошлепал к себе на сундуки, застеленные чистым рядном и покрытые байковым одеялом оранжевого цвета.
Лег я, а она не идет.
Стал думать… обманула. Хотела избавиться, теперь не придет. Долго, целую вечность валялся я в такой лихорадке. Слушал, прислушивался, не шуршит ли занавеска — ничего.
И вдруг! Чу! На моем лице рука. Так, совсем не слышно и как бы неожиданно. Я давно уже отодвинулся к стенке, освободил место с краю и отвернул одеяло. Как неслышно подошла. Присела на краешек постели. Что это, она в голубом шерстяном платье? Еще бы шубу надела, подумал я, и стал сердиться. Пришла разговаривать «за жизнь». Деревня есть деревня. Сейчас начнет объяснять, что без любви нельзя, или еще что-нибудь в этом роде. Как будто мы не на войне, а горожане, приехавшие на сенокос в колхозе.
Но она молчала. Я вскочил, стал ее целовать. Пытался снять платье — не разрешает. Но уложилась, а я рядом. Укрылись одеяльцем. Целую — отвечает. Трону платье — не разрешает.
Долго мы так развлекались. Она разрешала все, кроме одного. Нужно что-то сказать! Говорить! А я все молчал и пытался, пытался. Если бы она была светской дамой, полагалось бы жаркое объяснение: «Я полюбил вас с первого знакомства, как увидел вашу красоту, так и обмер». Для деревенской — только одно: «Я поженюся на тебе». И так сказать следовало, чтобы поверила, что если бы не ночь, то встанем, как только развиднеется, сразу пойдем в сельсовет, распишемся — и все дела, а сейчас раздевайся. Самое главное сейчас, сейчас.
Был еще третий, магический, безотказный вариант, он действовал во время войны — вот сейчас, сразу, иду в бой, и меня убьют, а ты отказываешься. Завтра меня уже не будет на свете, и ты себе не простишь этого никогда, всю жизнь, а я буду лежать на снегу, весь белый и неподвижный навсегда, а сегодня ты могла бы … Я знал все варианты, но не мог воспользоваться ни одним. Первое — о любви я врать не хотел и не смог бы. Второе — я был женат, обожал и жалел после Куйбышева свою жену, и говорить такое было невозможно. Третье — я был суеверен, как все на войне, и сказать слова: «меня убьют» не мог и не хотел. Нужно что-то говорить, а четвертого варианта нет.
Я устал, сердился и, наконец, сказал: «Что ты валяешь дурака? Катись отсюда. Ведь ты сама пришла, а впрочем… иди, иди. Уходи отсюда…»
![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/uploads/posts/books/243518/243518.jpg)