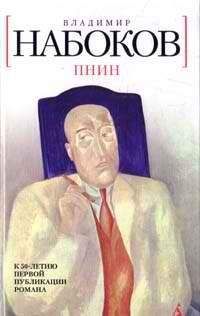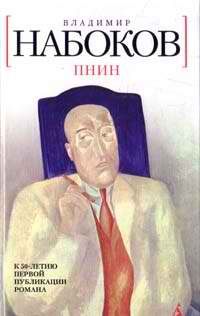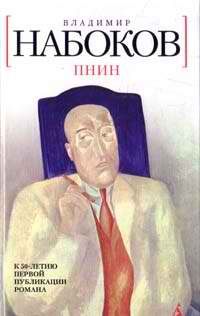Владимиp Набоков - Пнин
2
Пятью годами позже, проведя начало лета в нашем имении под Петербургом, моя мать, младший брат и я гостили у скучной старой тетки в ее на удивление запущенной усадьбе неподалеку от знаменитого курорта на Балтийском побережье. Как-то под вечер, когда я с сосредоточенным восторгом расправлял наизнанку исключительно редкую аберрацию Большой Перламутровки, у которой серебристые полоски, украшавшие испод ее задних крыльев, слились в ровное поле металлического блеска, вошел лакей с докладом, что старая барыня хочет меня видеть. Когда я вошел в залу, она разговаривала с двумя сконфуженными молодыми людьми в университетских мундирах. Один, со светлым пушком, был Тимофей Пнин, другой, с рыжеватым пухом, был Григорий Белочкин. Они пришли просить у моей тетки позволения воспользоваться пустой ригой на границе ее владений для устройства там спектакля. То был русский перевод «Liebelei», трехактной пьесы Артура Шницлера. Спектакль помогал ставить на скорую руку Анчаров, провинциальный полупрофессиональный актер, репутация которого зиждилась, главным образом, на пожелтевших газетных вырезках. Не хочу ли я участвовать? Но в шестнадцать лет я был столь же высокомерен, сколь застенчив, и отказался играть безыменного Господина из Первого Акта. Беседа окончилась обоюдным смущением, еще усилившимся оттого, что не то Пнин, не то Белочкин опрокинул стакан грушевого кваса,- и я вернулся к моей бабочке. Недели через две меня каким-то образом уговорили пойти на представление. Рига была полна дачников и инвалидов из ближнего лазарета. Я пришел с братом, а рядом со мною сидел управляющий тетушкиным имением Роберт Карлович Горн, добродушный толстяк-рижанин с налитыми кровью, голубыми, как фарфор, глазами, все время с увлечением апплодировавший невпопад. Помню запах декоративных еловых веток и глаза крестьянских детей, блестевшие сквозь щели в стенах. Передние стулья стояли так близко к рампе, что когда обманутый муж извлек пачку любовных писем, написанных к его жене Фрицем Лобгеймером, драгуном и университетским студентом, и швырнул их Фрицу в лицо, было ясно видно, что это старые открытки с косо отрезанными марками. Я совершенно убежден, что маленькую роль этого разгневанного Господина играл Тимофей Пнин (впрочем, не исключено, что в следующих актах он появлялся и в других ролях); но желтое кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с прямым пробором так основательно преобразили его, что, так как самое его существование тогда чрезвычайно мало интересовало меня, мне нечем подкрепить эту мою уверенность. Фриц, молодой любовник, обреченный погибнуть на поединке, не только имел таинственную закулисную связь с Дамой в Черном Бархате, женой Господина, но также играл сердцем Христины, наивной венской девушки. Фрица играл коренастый сорокалетний Анчаров, на котором был кротового цвета грим; он бил себя в грудь, как будто выбивал ковер, и неожиданной отсебятиной – так как не удосужился выучить роль – почти-что парализовал приятеля Фрица – Теодора Кайзера (Григория Белочкина). Одна состоятельная старая дева, которую Анчаров в действительной жизни обхаживал, взяла совсем не подходившую ей роль Христины Вейринг, дочери скрипача. Роль модисточки, возлюбленной Теодора Мизи Шлагер, прелестно сыграла красивая, с тонкой шеей и бархатными глазами девушка, сестра Белочкина, которую в тот вечер наградили самыми громкими рукоплесканиями.
3
Маловероятно, чтобы в продолжение революционных лет и последовавшей гражданской войны я имел случай вспомнить о д-ре Пнине и его сыне. Если я восстановил с некоторыми подробностями предыдущие мои впечатления, то только затем, чтобы закрепить то, что мелькнуло у меня в голове, когда однажды апрельским вечером в начале двадцатых годов в Парижском кафе я пожимал руку русобородого, с детским выражением в глазах Тимофея Пнина, молодого эрудированного автора нескольких замечательных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей и художников было заведено собираться в «Трех фонтанах» после публичных концертов или лекций, столь популярных в среде русских апатридов; и вот при одной такой оказии я, еще охрипший от чтения, пытался не только напомнить Пнину наши прошлые встречи, но также позабавить его и окружавших нас людей необычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетку, но меня никогда не встречал. Он сказал, что всегда получал низкие баллы по алгебре и что, во всяком случае, отец никогда не демонстрировал его перед своими пациентами; он сказал, что в «Забаве» («Liebelei») он играл только роль отца Христины. Он повторил, что мы никогда прежде друг друга не видали. Наша короткая перепалка была не более чем добродушный обмен шутливыми репликами, и все смеялись; заметив, как неохотно он говорит о своем прошлом, я перешел на другую, менее личную тему.
Скоро я обратил внимание на то, что поразительной наружности молодая девица в черном шолковом свитере, с золотой лентой вокруг каштановых волос, сделалась главной моей слушательницей. Она стояла передо мной, ее правый локоть покоился на левой ладони, в правой руке она держала папиросу, как цыганка между большим и указательным пальцами, и папиросный дым струился вверх; ее яркие синие глаза были из-за дыма прикрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка медичка, которая к тому же писала стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать на мой суд несколько стихотворений. Немного позднее, все на том же сборище, я заметил, что она сидит рядом с отвратительно волосатым молодым композитором Иваном Нагим; они пили на брудершафт, для чего полагается переплести руки сотрапезников, а на расстоянии нескольких стульев от них д-р Баракан, талантливый невропатолог и последний Лизин любовник, следил за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах.
Спустя несколько дней она прислала мне свои стихи; характерный образец ее продукции представляет собой тот род стихотворений, которым увлекались, подражая Ахматовой, эмигрантские рифмоплетки: жеманная лирическая пьеска, передвигавшаяся на цыпочках более или менее четырехстопного анапеста, чтоб потом довольно тяжело усесться с томным вздохом:
Самоцветов кроме очей
Нет у меня никаких,
Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих.
И юноша тихий сказал:
«Ваше сердце всего нежней…»
И я опустила глаза…
Такие неполные рифмы, как «сказал – глаза», считались весьма элегантными. Заметьте также эротический подтекст и намеки а 1а cour d'amour.
Я написал Лизе, что стихи ее плохи и что ей следует перестать писать. Потом как-то раз я увидал ее в другом кафе; она сидела за длинным столом, цветущая и пламенеющая, в обществе дюжины русских поэтов. Она с насмешливым и загадочным упорством не сводила с меня своего сапфирного взгляда. Мы разговорились. Я предложил ей показать мне эти стихи еще раз, в каком-нибудь более спокойном месте. Она согласилась. Я сказал ей, что они показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Она жила в самом дешевом номере захудалого отельчика, без ванны, рядом с четой щебечущих молодых англичан.
Бедная Лиза! Конечно, и у нее бывали свои поэтические минуты, когда она, случалось, как завороженная останавливалась майской ночью на грязной улочке, любуясь – нет, поклоняясь пестрым обрывкам старой афиши на мокрой черной стене в свете уличного фонаря и прозрачной зелени липовых листьев, никших к фонарю, но она была из тех женщин, в которых здоровая красота совмещается с истерической неряшливостью, лирические взрывы с очень практичным и очень трафаретным умом, отвратительный характер с сантиментальностью и томная покорность с сильнейшей способностью заставлять людей бессмысленно хлопотать. В результате переживаний и в ходе событий, изложение коих было бы лишено всякого интереса для читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Погружаясь в беспамятство, она опрокинула откупоренный пузырек темно-красных чернил, которыми она записывала свои стихи, и эту яркую струйку, выбегавшую из-под двери, Крис и Лу заметили как раз вовремя, чтобы успеть ее спасти,
Я не видел ее недели две после этой неприятности, когда накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике в конце моей улицы – стройная незнакомка в прелестном новом платье, сизом, как Париж, и в совершенно восхитительной новой шляпе с синим птичьим крылом – и вручила мне сложенный листок. «Я хочу, чтобы вы дали мне последний совет,- сказала Лиза голосом, который французы называют «белым».- Мне здесь делают предложение. Я буду ждать до полуночи. Если вы ничего не ответите, я приму его». Она кликнула таксомотор и укатила.
Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно:
«Боюсь, я заслужу немилость своим признаньем – Вам должно быть больно, дорогая Lise» – (автор письма, несмотря на то, что пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать как слишком фамильярного «Лиза», так и чересчур оффициального «Елизавета Иннокентьевна»),- «Человеку чуткому всегда больно видеть другого в неловком положении. А я именно в неловком положении.