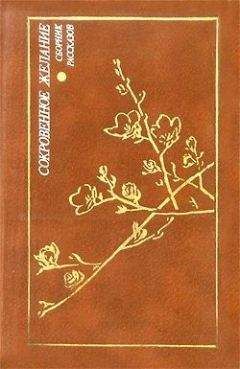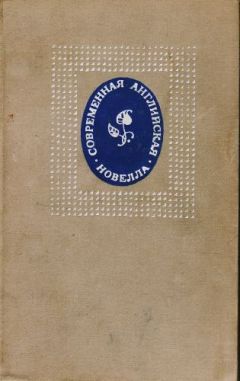Жюльен Грин - Обломки
Обычно входная дверь отворялась только после двух-трех звонков, и отворялась словно бы сама собой; это из кухни ее энергично дергала за проволоку чья-то рука. Толкнув дубовую дверь, вы попадали в вестибюль, обитый алым плюшем, и ждали, стоя у лестницы, ведущей в подвальный этаж. Вот тут-то вам навстречу не торопясь подымалась дама, еще не старая, одетая с чисто провинциальным изяществом, то есть с запозданием лет на десять против сегодняшней моды. Жакет лиловатых тонов, свободно мнущийся у талии, распахнутый с таким расчетом, чтобы была видна белая блузка; слишком короткая юбка открывала мясистые икры классной велосипедистки, очевидно, предмет особой гордости их владелицы. Лаковые туфли, чернобурка, косо накинутая на плечи, и черные митенки довершали туалет, пригодный, по-видимому, и для лета и для зимы. Мадемуазель Морозе могла бы даже считаться хорошенькой, одевайся она не так эксцентрично и будь черты ее помягче, а главное, если бы горбатый крупный нос не так резко выделялся на лице, где тридцать пять прожитых лет прочертили на коже сеточку морщинок. Смуглый цвет лица и дерзкие черные глаза свидетельствовали об иностранном происхождении мадемуазель, а искусно загнутые ресницы взмахивали подозрительно часто, чего, надо полагать, требовали правила кокетства. Короткие, но густые волосы были уложены лоснящимися локонами на макушке так, что получалось нечто вроде петушиного гребня. Подымаясь по лестнице, она вязала что-то очень маленькое, беленькое, но изрядно засаленное, и казалось, она больше интересуется движениями собственных пальцев, чем появлением возможного клиента.
Однако ее сразу заинтриговал растерянный вид Элианы. Женщина она была, в сущности, добрая и сразу догадалась, что именно горе, и притом настоящее, привело к ней новую пансионерку. Поэтому-то, вопреки твердым представлениям о том, что следует делать мадемуазель Морозо и чего делать ей не пристало, хозяйка пансиона сама схватила чемоданчик Элианы и отвела ее в комнату.
— Отдохните сначала, — посоветовала она, показывая на кресло. — Я отвела вам самый лучший номер. Нет, нет, о цене поговорим потом. А сейчас будем завтракать.
Элиана молча повиновалась. Неудержимые слезы застилали взор, и сквозь их радужную дымку она следила за движениями этой странной дамы с птичьим профилем. Постепенно боль переходила в сонную одурь, искажавшую реальный мир, и мадемуазель Морозо уже не казалась смешной, а просто непонятной, словно то был редкостный, ученый зверек, переодетый женщиной. «Почему она такая добрая?» — пыталась догадаться Элиана. Вот это-то обстоятельство казалось ей особенно неправдоподобным. В оцепенении слушала она стук каблучков по не покрытому ковром паркету и болтовню, порхавшую где-то то справа, то слева, но не доходившую до сознания. Говорит хозяйка как-то особенно звучно, упирая на букву «р», и на каком-то языке, казалось, ничего общего с человеческим языком не имеющим. Вдруг Элиана потеряла сознание, но успела еще подумать, что это просто смешно.
Когда она пришла в себя, гардины были задернуты, в комнате не было никого. Очевидно, мадемуазель Морозо решила, что новенькая просто заснула, и Элиана, не любившая быть предметом чужого любопытства, от души порадовалась, что хозяйка не заметила ее слез. Она продрогла в холодной комнате, и это отвлекло ее от печальных мыслей. Элиана попыталась было встать, но ноги не повиновались, она упала в кресло, сняла перчатки, чтобы растереть застывшие руки, потом огляделась. Подобно всем старым девам, которых обошло счастье и богатство, она отлично знала, что такое комната в пансионе. Как старая знакомая встретила ее широкая медная кровать, безмолвно приглашавшая прилечь под сложенную треугольником простыню, лежавшую на красной перине; низенькие кретоновые ширмочки, заслоняющие умывальник, зеркало в плетенной из тростника рамке, с которого так и не удосужились стереть кляксы зубной пасты. Кроме кресла, ни одного сиденья. Из-за отсутствия мебели полупустая комната казалась особенно просторной.
Сама не заметив этого, Элиана произнесла это последнее соображение вслух и почувствовала, что ее охватило ужасное беспокойство. И в самом деле, она уже не понимала, как и почему очутилась здесь. В памяти вдруг разверзлась бездна, поглотив без остатка целый день жизни. Она тупо глядела на чемодан с красовавшейся на боку наклейкой отеля в Кабуре. Четырнадцать лет назад она ездила в Кабур и помнила до мельчайших подробностей свое тогдашнее путешествие, а вот вчерашний день канул в густой мрак. Элиана вздрогнула. Ей почудилось, будто она борется со смертью, потом внезапно зияющий провал памяти заполнился, и она увидела себя рыдающую, уткнувшуюся в плечо Филиппа и вспомнила, что она самая несчастная женщина на свете. Из груди вырвался стон. Значит, придется страдать снова и снова! Уж лучше бы окончательно и навеки потерять память!
С четверть часа она сидела неподвижно, устремив глаза в одну точку, вяло положив ладони на подлокотники кресла. В дверь постучали, и она подскочила от этого осторожного стука, еле сдержала крик. Однако это оказался не кто иной, как мадемуазель Морозо, она принесла на подносе завтрак.
— Я вас разбудила?
— Нет.
— Может, отдернуть гардины?
— Да.
— Надеюсь, вы не больны?
— Не больна, только устала и замерзла.
Мадемуазель Морозо укоризненно взглянула на Элиану:
— Замерзли? А ведь калорифер работает исправно.
Она поставила поднос на кровать.
— На вашем месте я бы легла.
— Да нет, зачем же? Будьте добры, дайте мне поднос сюда. Я пристрою его на коленях. Вот так, хорошо. Боже ты мой, сколько вы всего принесли! Чересчур много.
Она попыталась улыбнуться, хотя к горлу подступала тошнота при виде этого скукожившегося антрекота, плавающего в теплом сале.
— Сейчас у вас вид получше, — заявила мадемуазель Морозо. — Я вас пока оставлю, а потом приду посижу с вами. Если вам что понадобится…
Она пальцем показала на кнопку звонка.
— Ах да, гардины…
Она бросилась к окну, отдернула гардины. Тюлевые занавесочки не скрывали пустынного загона, где в глубине какая-то полуразрушенная хибарка привалилась к низкой стенке. Ближе к окну две акации сплетали свои ветки; хилый плющ карабкался вверх по стволам, стараясь вытеснить с кусочка земли несколько сорных травинок. Очевидно, это и был «большой тенистый сад».
— Летом я вешаю гамак между двух акаций, — пояснила мадемуазель Морозо. — Закрою глаза, раскачаюсь, убаюкиваю себя, стараюсь забыть, что я живу здесь, в Париже, как пленница…
Она опустила широкие веки и с томным видом повела бедрами, показывая, как она качается в гамаке. Элиана отвернулась, от этой мимической сценки ей стало не по себе, и она испугалась, как бы за первыми признаниями мадемуазель Морозо не последовал подробный рассказ о всей ее жизни, но, вопреки ожиданию, уже через минуту осталась в одиночестве.
Первым делом она налила стакан красного вина и залпом проглотила его, надеясь собраться с силами. Потом дрожащими руками поставила поднос на пол и попыталась встать. Сил по-прежнему не хватало, но на помощь пришел дух. Толкая кресло коленями и руками, она пододвинула его как можно ближе к калориферу, отдышалась, вынула из чемоданчика записную книжку и авторучку. Потом, подумав, начала писать:
«Дорогой Филипп, ты хотел знать, почему я ушла из дому; сейчас я тебе скажу почему. Теперь, когда я от тебя далеко, сделать это гораздо легче. Ты даже вообразить себе не можешь, ни что такое сердце старой девы, ни сколько мужества потребовалось мне, чтобы написать эти слова. Целых одиннадцать лет я жила под одной крышей с вами обоими, изо дня в день была свидетелем вашего счастья, горя, неприятностей… Я же, как таковая, не существовала. Я только проверяла счета, заказывала обед, следила, чтобы в сарае всегда были дрова, а в вазах гостиной цветы. Я выслушивала твои рассказы, когда ты возвращался с прогулки, а также была поверенной тайн твоей жены. По-моему, я вас не особенно стесняла.
Сейчас не могу больше. Мне, Филипп, тридцать один год (а не тридцать, как я тебе однажды сказала). Возможно, ты ни разу не задумался над тем, какую роль играло в моей жизни чувство, а под словом «чувство» я подразумеваю любовь, мне нелегко далось это слово, особенно при мысли, что я собой представляю — лицо, морщины…»
Элиана отложила ручку и, нагнувшись, взглянула в окно. Черная курица степенно разгуливала по садику, то и дело чиркая клювом по земле; ветер гнул ветки акаций и стучал ставней о стену соседнего дома. Элиана снова взялась за письмо:
«Было бы справедливо, чтобы женщины, не способные внушить к себе любовь, были бы избавлены от нее. Однако природа слепа, а может, просто извращена. Я влюблена в человека, который не хочет меня потому, что я недостаточно красива. Представляешь, до какого отчаяния надо дойти, чтобы написать такое? Как бы я его любила, Филипп…»