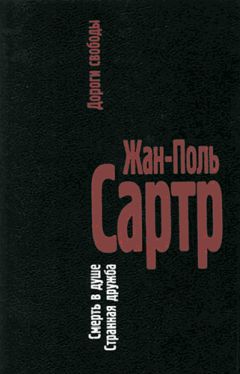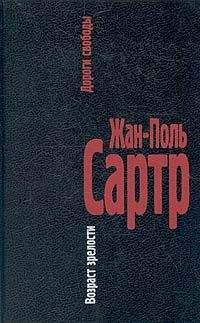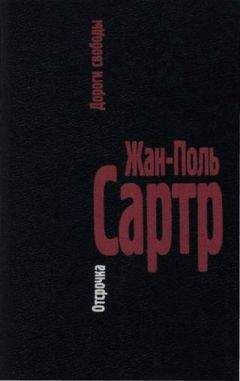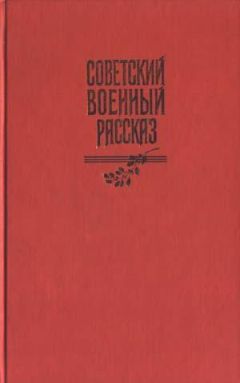Жан-Поль Сартр - Дороги свободы. III.Смерть в душе. IV.Странная дружба
— Что ты на меня так смотришь? Как по-твоему, я красивый?
— Да. Очень, — спокойно ответил Филипп. Даниель обернулся и удовлетворенно увидел в зеркале
свое мрачноватое породистое лицо. Филипп потупился, он прыснул, прикрыв рот ладошкой.
— Ты смеешься, как школьница.
Филипп осекся. Даниель недовольно спросил: — Почему ты засмеялся?
— Просто так.
Он захмелел от вина, неуверенности, усталости. Даниель подумал: «Он созрел. Если все делать как бы в шутку, похожую на мальчишескую возню, малыш позволит опрокинуть себя на диван, позволит ласкать, целовать за ухом: он будет защищаться только безумным смехом». Даниель резко повернулся к нему спиной и прошелся по комнате: «Нет, слишком рано, очевидно рано, без глупостей! Завтра он снова попробует покончить с собой или попытается убить меня». Перед тем как вернуться к Филиппу, он застегнул пиджак и натянул его на бедра, чтобы скрыть очевидность своего волнения.
— Ну вот! — сказал он.
— Вот, — отозвался Филипп.
— Посмотри на меня.
Он погрузил свой взгляд в его глаза, удовлетворенно покачал головой и медлительно произнес:
— Ты не трус, я в этом убежден.
Он выпрямил указательный палец и ткнул им Филиппа в грудь.
— Как ты мог впасть в панику? Нет! Это на тебя не похоже. Ты просто ушел; ты предоставил события самим себе. Почему ты должен погибать за Францию? А? Почему? Тебе ведь наплевать на Францию, а? Разве не так, маленький озорник?
Филипп неопределенно покачал головой. Даниель снова стал ходить по комнате.
— Теперь с этим покончено, — с веселым возбуждением продолжал он. — Конечно. Баста. Тебе выпал шанс, которого у меня в твоем возрасте не было. Нет, нет, — сказал он, живо взмахнув рукой, — нет, нет, я не имею в виду нашу встречу. Твой шанс — это историческое совпадение: ты хочешь подорвать буржуазную мораль? Что ж, немцы пришли, чтобы помочь тебе. Ха! Ты увидишь, как здесь пройдутся железной метлой; ты увидишь, как ползают на брюхе отцы семейства, ты увидишь, как они лижут сапоги и подставляют жирные зады под пинки победителей; ты увидишь своего распластавшегося отчима: он — великий побежденный этой войны, теперь ты сможешь его по-настоящему презирать.
Он хохотал до слез, повторяя: «Как здесь пройдутся железной метлой!» — затем резко повернулся к Филиппу.
— Мы обязаны их любить.
— Кого? — испуганно спросил Филипп.
— Немцев. Они наши союзники.
— Любить немцев, — повторил Филипп. — Но я… я их не знаю.
— Терпение, скоро мы их узнаем: мы будем обедать у гауляйтеров, у фельдмаршалов; они будут возить нас в больших черных «мерседесах», а парижане будут топать пешком.
Филипп подавил зевок; Даниель затряс его за плечи.
— Нужно любить немцев, — твердил он ему с напряженным лицом. — Это будет твое первое духовное упражнение.
У мальчика был не слишком взволнованный вид; Даниель отпустил его, раскинул руки и сказал лукаво и торжественно:
— Пришло время убийц!
Филипп снова зевнул, и Даниель увидел его заостренный язык.
— Я хочу спать, — с извиняющимся видом сказал Филипп. — Уже две ночи я не смыкаю глаз.
Даниель подумал было рассердиться, но он тоже устал, как уставал после каждой новой встречи. Он так долго желал Филиппа, что теперь чувствовал тяжесть в паху. И он заспешил остаться один.
— Очень хорошо, — сказал он, — я тебя оставляю. Пижама лежит в ящике комода.
— Не стоит труда, — вяло сказал мальчик, — мне нужно возвращаться.
Даниель, улыбаясь, посмотрел на него:
— Поступай, как хочешь; но ты рискуешь наскочить на патруль, и кто знает, что они с тобой сделают: ты красив и привлекателен, а немцы все любят мальчиков. И потом, даже если предположить, что ты попадешь домой, ты там найдешь то, от чего хочешь бежать. На стенах фотографии твоего отчима, а комната твоей матери пропитана ее духами.
Филипп, казалось, не слышал его. Он попытался встать, но снова упал на диван.
— А-а-а-х! — протяжно зевнул он.
Он посмотрел на Даниеля и с растерянным видом ему улыбнулся:
— Наверное, мне лучше остаться.
— Тогда доброй ночи.
— Доброй ночи, — зевая, сказал Филипп.
Даниель пересек комнату, проходя мимо камина, он нажал на лепное украшение, и полка книжного шкафа повернулась вокруг своей оси, открыв ряд книг в желтых переплетах.
— Это — ад, — сказал он. — Позже ты все прочтешь: там говорится о тебе.
— Обо мне? — не понимая, переспросил Филипп.
— Да. О тебе и твоей истории.
Он толкнул полку и открыл дверь. Ключ остался снаружи. Даниель взял его и бросил Филиппу.
— Если боишься воров или привидений, можешь запереться, — насмешливо сказал он.
Он закрыл за собой дверь, дошел в темноте до своей спальни, зажег лампу у изголовья и сел на кровать. Наконец-то один! Шесть часов ходьбы и еще четыре часа эта изматывающая роль злого принца: «Я смертельно устал». Он вздохнул от удовольствия побыть одному; радуясь, что его никто не слышит, он уютно застонал: «Как же ломит яйца!» Пользуясь тем, что его наконец не видят, он сделал плаксивую гримасу. Потом улыбнулся и откинулся назад, как в хорошей ванной: он привык к этим долгим отвлеченным желаниям, к этим бесплодным и скрытым эрекциям; он по опыту знал, что будет меньше страдать, если ляжет. Лампа образовала круг света на потолке, подушки были прохладными. Даниель, расслабленный, полумертвый, улыбающийся, отдыхал. «Спокойно, спокойно: я закрыл входную дверь на ключ, и он у меня в кармане; впрочем, он рухнет от усталости, он будет спать до полудня.
Пацифист: подумать только! В целом, все прошло не слишком блестяще. Определенно существовали ниточки, за которые следовало потянуть, но я не смог их найти». Натаниели, Рембо — тут Даниель был мастак; но новое поколение приводило его в замешательство: «Какая странная смесь: нарциссизм и социальные идеи, это же бессмысленно». Тем не менее, в общих чертах все обернулось не так уж плохо: мальчик был здесь, под замком. Если он будет сомневаться, основательно разыграем карту последовательного распутства. Это всегда немного захватывало, это льстило: «Ты будешь моим, — подумал Даниель, — я уничтожу твои принципы, мой ангелочек. Социальные идеи! Посмотрим, во что они превратятся!» Эта остывшая горячность давила ему на желудок, и чтобы избавиться от нее, он прибег к цинизму. «Будет превосходно, если я смогу сохранить его надолго; я должен освободиться от узды, мне нужен кто-то под рукой постоянно. Поиск юношей на ярмарках, в заведениях и кафе типа «Графф и Тото», «Голубой дружок», «Мариус», «Особое чувство»: с этим покончено. Покончено с выжиданиями на подходах к Восточному вокзалу, с тошнотворной вульгарностью солдат-отпускников с грязными ногами: я остепеняюсь». (Кончен Ужас!) Он сел на кровати и стал раздеваться. «Это будет серьезная связь», — решил он. Ему хотелось спать, он был спокоен, он встал, чтобы взять постельное белье, и убедился, что спокоен, он подумал: «Любопытно, что я не испытываю тревоги». В этот миг кто-то стал за его спиной, он обернулся, никого не увидел, и ужас парализовал его. «Еще раз! Еще один раз!» Все начиналось сызнова, он знал все наперечет, он мог все предвидеть, мог по минутам рассказать обо всех несчастьях, которые его постигнут, о долгих, долгих обыденных годинах, скучных и безнадежных, которые его ждут, о позорном и мучительном конце: все это он знал. Он посмотрел на закрытую дверь, он терзался, он думал: «На сей раз я от этого околею», и во рту у него была желчь предстоящих страданий.
— Хорошо горит! — сказал старик.
Все были на дороге — солдаты, старики, девушки. Учитель тыкал тростью в сторону горизонта; на конце трости вращалось рукотворное солнце, огненный шар, скрывающий бледную зарю. Это горел Робервилль.
— Хорошо горит!
— Да! Да!
Старики топтались на месте, заложив руки за спину, и говорили: «Да! Да!» низкими, спокойными голосами. Шарло выпустил руку Матье и сказал:
— Какая беда! Один старик ответил:
— Такая уж доля крестьянина. Когда нет войны, жди беды, от града или мороза; для крестьян нет мира на земле.
Солдаты щупали в темноте девушек, понуждая их смеяться; за спиной Матье слышал крики мальчишек, которые играли на опустевших улицах деревни. Подошла женщина, на руках у нее был ребенок.
— Это французы подожгли? — спросила она.
— Вы что, мамаша, тронутая? — сказал Люберон. — Это немцы.
Какой-то старик недоверчиво покачал головой:
— Немцы?
— Да да, немцы, фрицы!
Старик, казалось, не слишком этому верил.
— В ту войну немцы уже приходили. И ничего особенного не натворили: это были неплохие парни.
— С чего бы нам поджигать? — возмущенно спросил Люберон. — Мы же не дикари.
— А зачем им поджигать? Где им тогда на постой становиться?