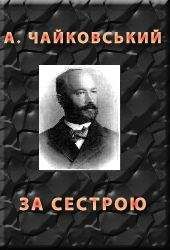Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1894-1897
Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.
Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:
– Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.
– Какие у меня деньги! – изумился Матвей. – Какие у меня деньги!
– Два процента в месяц, это для вас как с неба, – объяснял жандарм. – А лежавши у вас, ваши деньги только моль ест и больше никакого результата.
Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:
– Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!
Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.
– На чем же вы поедете? – спросил он, подумав. – На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.
– Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадями, а я нет? – спросил с раздражением Матвей.
– Потому что я не гулять, а по делу.
– Имущество у нас общее, значит, и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.
Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.
– Братец, – говорил Матвей, – я человек больной, не хочу я имения, бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.
Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться – разориться.
Яков молчал и всё ждал, когда уйдет Матвей, и всё смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна, днем же это его пугало и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.
Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около Прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей, и теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать, как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер…
Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так всё время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: «Богомолов едет», – а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:
– Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!
Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним всё мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля… Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера.
Ему было жутко оставаться одному в поле, он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:
– Богомолов вернулся.
Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и раза два принимался читать псалтирь, а до вечера всё еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы и, от нечего делать, убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыбя!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбранил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинною, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.
– Что ты, срамница? – крикнул он ей и даже испугался. – Какие это ты слова?
А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за всё время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикой и темной, как эта девушка, и, вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.
В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их нисколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки, – в это время пошел снег хлопьями, – борода у него развевалась по ветру, он всё встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех…
V
Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в последнее время к Матвею. Он всё считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготовлял для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:
– Грудь матери, это – буфет для младенца.
Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на Прогонной ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:
– Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?
Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! господи, спаси!» – и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и всё встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.