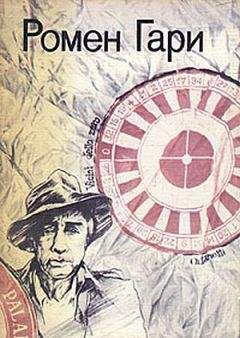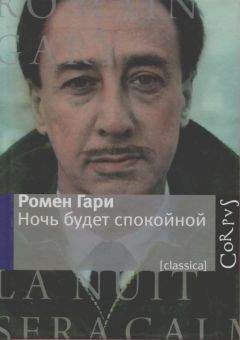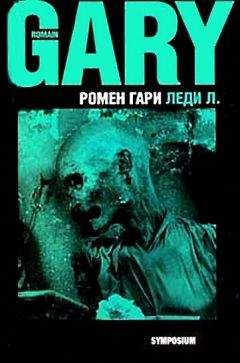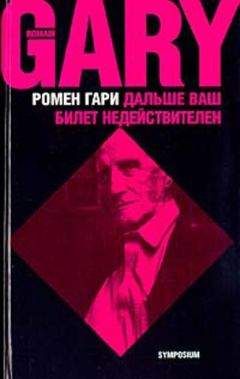Ромен Гари - Корни Неба
В конце концов я выбрал красивый холм с видом на широкое плато Уле, которое так любил – это сама Африка, со всеми своими стадами, которым еще долго можно было не бояться охотников. Нам потребовалось полтора дня, чтобы туда добраться, а придя на место, Двала снова стал чинить всякие препятствия, утверждая, будто тут слишком далеко от дома; он не уверен, что его сила подействует на таком расстоянии. Он предложил мне другое место, поближе к деревне, на земле его племени. Полузакрыл свой мутный глаз, и я сразу понял, что он просто хочет, чтобы я купил то место, тогда как я мог получить его даром. Я заявил, что подумаю, и Двала поглядел на меня с легким укором: чего же ты сердишься, казалось, спрашивал он, надо же мне поторговаться? Я указал ему точное место, которое выбрал. Он предложил другой холм, совершенно лишенный растительности, где мне будет просторнее.
Но мне нравился именно этот вид, и чтобы по утрам на меня падало солнце, и я хотел хотя бы потом не быть одиноким; вокруг меня должны расти другие деревья. А тут стояли очень красивые кедры, и я показал ему один из них, чтобы он понял, чего именно я хочу. Он помотал головой, закряхтел, заставил себя снова уламывать и сказал, что, ладно, он попробует, но я должен попросить отцов-миссионеров и особенно отца Фарга пореже наведываться в деревню; они его расстраивают, дурно влияют на духов и он вряд ли будет на что-нибудь способен, если они станут приходить слишком часто. Я обещал. Вот о чем я думал, сидя у себя на террасе и слушая лейтенанта. Я знал, что Двала может превратить человека, когда тот умрет, в дерево, и видел своими глазами деревья, которые мне показывал Н’Гола, деревья, бывшие когда-то людьми его племени. Н’Гола знал их имена и историю жизни и объяснял мне: «Вот этого съел лев» или «Вот этот был великим вождем уле». Деревья все еще там, я теперь могу показать их вам, и вы убедитесь сами, что в колдовских способностях Двалы сомневаться не приходится, – в противном случае во что вообще можно верить? Но Двала должен был впервые употребить свою силу для белого, и он так беспокоился, какие последствия это будет для него иметь, что, вернувшись в деревню, напился до бесчувствия пальмовой водкой. И тем не менее стонал всю ночь и с ужасом озирался вокруг; я хоть и знал, что он часто напивается допьяна, все же думал, что он здорово рисковал рассердить своих духов, желая доставить мне удовольствие. Вот о чем я размышлял, в полном согласии с самим собой, пока лейтенант изощрялся в красноречии, вещал о том, что было настолько далеко, что словно давно меня не касалось.
Часть вторая
XXV
Они возникли, все трое, на гребне холма в высокой траве, сквозь которую, подняв кверху морды, медленно двигались лошади; Морель впереди – нос с горбинкой, широко раздутые ноздри – с неизменным портфелем, набитым бумагами и притороченным к седлу; за ним Идрисс; лошади с шелестом раздвигали боками ветки бамбука и sissongo ; быстрые и в то же время словно застывшие глаза Мореля, лишенные ресниц, всматривались в даль при малейшем шорохе, из-под белого шарфа, обернутого вокруг головы; в нем угадывалась давняя привычка к джунглям и ко всякому зверью; бывали минуты, когда даже Хабиб чувствовал себя неспокойно под этим старым многоопытным взглядом. Вот уже три часа как они спускались с горы к месту назначенной встречи, и капитан дальнего плавания с фуражкой, сдвинутой на ухо, и погасшей сигарой в зубах, в веревочных туфлях, вдетых в арабские стремена, с трудом держался в седле, ему было невмоготу. Но Вайтари строго поручил не спускать глаз с этого сумасшедшего Мореля.
– Надо помешать ему сделать глупость. Он настолько уверен в поддержке общественного мнения, в своем оправдании и даже торжестве, что может сдаться властям. Для нас он тогда потерян, все поймут, что это просто чудак, который верит в своих слонов. Морель полезен, пока он – легенда; как раз сейчас арабское радио провозглашает его человеком, вдохновленным идеей африканского национализма. Не попрекайте меня цинизмом, но у колыбели всякого революционного движения всегда стоят одержимые, путаники и идеалисты; деятели, подлинные созидатели, приходят потом, не сразу, но неуклонно. Все это я говорю, чтобы вы поняли, насколько необходимо не дать, чтобы он сдался… живым. Я его даже люблю, это чистая душа, но между тем гораздо лучше, если он исчезнет в сиянии славы, в ореоле преданий. Он останется в глазах потомков первым белым, отдавшим свою жизнь за независимость Африки… вместо того, чтобы разоблачать себя как рядового фанатика.
Он неопределенно взмахнул рукой.
– Вряд ли стоит объяснять, что я ни к чему вас не призываю.
Хабиб сделал все, чтобы никак не выказать своего удовольствия. У него была настоящая профессиональная страсть ко всем проявлениям человеческой натуры. Он приобрел глубокое познание человека, которое чаще всего выражалось могучим, утробным смехом. Тогда он откидывал голову, глаза его превращались в щелки, борода тряслась, и он прижимал руки к груди, словно сдерживая переполнявшую сердце радость. Но, будучи торговцем оружием, он остерегался открыто веселиться перед «освободителями», «выразителями законных чаяний народа», «революционными трибунами» и прочими поборниками высоких бессмертных принципов вроде Мореля; они были его хлебом насущным. Он ожидал, покуда останется один.
А вот теперь, следуя за Морелем к месту встречи, он под шелест желтых трав, сквозь которые, порой беспокойно пофыркивая, пробирались лошади, дал волю веселью; правда, за спиной у своих спутников. Он представил себе командира без войска, который одиноко сидит у себя в пещере, положив могучие руки на карту «военных действий», и голосом трибуна призывает к созданию африканской федерации от Суэца до Кейптауна, воочию видя себя ее полновластным вождем. Эта мечта о величии и могуществе должна была разделить судьбу всех подобных мечтаний, исчезнув в пыли дорог. Он хотел, чтобы его молодой друг де Врис насладился всем комизмом этой ситуации, но тот валялся на циновке, страдая поносом, и только мстительно поглядывал из-под бровей, разжимая губы лишь для яростных упреков, – он винил Хабиба в отчаянном положении, в которое они попали, словно кто-нибудь на белом свете, – удивлялся Хабиб этой наивности молодости, может быть виноват в том бедственном положении, в каком они очутились! Но де Врис с раздражением слушал цветистые речи ливанца, не обладая его выносливостью; измученному поносом и лихорадкой, мухами, москитами и часами, проведенными в седле, ему казалось, что он и правда вот-вот лишит Хабиба своего общества. В конце концов Хабиб даже встревожился. Он попытался убедить Вайтари, что им следовало бы поехать в Судан: поговаривали о Бандунгской конференции, где будут представлены все колониальные народы и особенно народы черной Африки, которыми до сих пор как-то пренебрегали. Надо на какое-то время прекратить открытую борьбу и предстать перед международным ареопагом, возвысить там свой голос. Горящие фермы, неуловимые партизаны, защищающие природные богатства Африки от колониальной эксплуатации, – вот та картина, которую надо там нарисовать. Вайтари тем легче было убедить, что он и сам был такого же мнения. Он стоял перед входом в пещеру, опираясь кулаком на карту, над которой, как он иногда мечтал, его когда-нибудь сфотографируют: «Главнокомандующий армией, борющейся за независимость Африки, на своем командном посту»; он помнил подобную фотографию Тито, сделанную во время войны. Но ему не хватало людей, партизан, – их могли выдвинуть лишь политически сознательные массы, а не первобытные племена, которые он презирал. Порой он чувствовал подавленность от одиночества. Вайтари редко выходил из пещеры, одного из четырех или пяти «опорных пунктов», которые смог тайком организовать во время недавних официальных разъездов, в предвкушении мировой войны, каковая, как он тогда считал, вот-вот грянет. В сроках он ошибся. Столкновения не произошло. И он остался один, без войска, отрезанный ото всех; три из пяти «опорных пунктов», где он копил оружие, были обнаружены и разграблены властями. Ему пришлось скрываться в Каире, где он уныло прозябал, пока до него не дошли слухи о «кампании в защиту африканских слонов». Он тут же сообразил, какую выгоду из нее можно извлечь. Это же пропагандистский лозунг, о котором можно только мечтать; легкий штрих, и беспорядкам будет дано нужное истолкование. Однако он столкнулся со стеной непонимания. Несмотря на все усилия арабского радио, мировое общественное мнение продолжало верить в Мореля и его слонов. Да, толпа верила, что где-то в дебрях Африки какой-то француз действительно защищает красоту природы. Такую версию, конечно, поддерживали колониальная пресса и власти, которые вовсе не желали придавать этой истории политический характер. Тяжело опираясь на карту, слушая доводы Хабиба, чье цветистое красноречие его только раздражало, Вайтари чувствовал себя одиноким и далеким от цели как никогда. В пещере пахло землей, гнилью, воздух был спертый, несмотря на два отверстия, откуда падал режущий свет, чтобы тут же потускнеть на лицах.