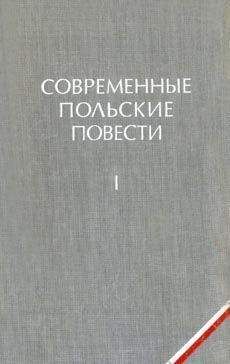Константин Симонов - Живые и мертвые
– Все? Больше вам нечего мне сказать? – подняв на Серпилина злые глаза, спросил Баранов.
Что-то дрогнуло в лице Серпилина при этих словах; он даже на секунду закрыл глаза, чтобы спрятать их выражение.
– Скажите спасибо, что за трусость не расстреляли, – вместо Серпилина отрезал Шмаков.
– Синцов, – сказал Серпилин, открывая глаза, – занесите в списки части бойца Баранова. Пойдите с ним, – он кивнул в сторону Баранова, – к лейтенанту Хорышеву и скажите ему, что боец Баранов поступает в его распоряжение.
– Твоя власть, Федор Федорович, все выполню, но не жди, что я тебе это забуду.
Серпилин заложил за спину руки, хрустнул ими в запястьях и промолчал.
– Пойдемте со мной, – сказал Баранову Синцов, и они стали догонять ушедшую вперед колонну.
Шмаков пристально посмотрел на Серпилина. Сам взволнованный происшедшим, он чувствовал, что Серпилин потрясен еще больше. Видимо, комбриг тяжело переживал позорное поведение старого сослуживца, о котором, наверно, раньше был совсем другого, высокого мнения.
– Федор Федорович!
– Что? – словно спросонок, даже вздрогнув, отозвался Серпилин: он погрузился в свои мысли и забыл, что Шмаков идет рядом с ним, плечо в плечо.
– Чего расстроился? Долго вместе служили? Хорошо его знали?
Серпилин посмотрел на Шмакова рассеянным взглядом и ответил с непохожей на себя, удивившей комиссара уклончивостью:
– А мало ли кто кого знал! Давайте лучше до привала шагу прибавим!
Шмаков, не любивший навязываться, замолчал, и они оба, прибавив шагу, до самого привала шли рядом, не говоря ни слова, каждый занятый своими мыслями.
Шмаков не угадал. Хотя Баранов действительно служил с Серпилиным в академии, Серпилин не только был о нем не высокого мнения, а, наоборот, был самого дурного. Он считал Баранова не лишенным способностей карьеристом, интересовавшимся не пользой армии, а лишь собственным продвижением по службе. Преподавая в академии, Баранов готов был сегодня поддерживать одну доктрину, а завтра другую, называть белое черным и черное белым. Ловко применяясь к тому, что, как ему казалось, могло понравиться «наверху», он не брезговал поддерживать даже прямые заблуждения, основанные на незнании фактов, которые сам он прекрасно знал.
Его коньком были доклады и сообщения об армиях предполагаемых противников; выискивая действительные и мнимые слабости, он угодливо замалчивал все сильные и опасные стороны будущего врага. Серпилин, несмотря на всю тогдашнюю сложность разговоров на такие темы, дважды обругал за это Баранова с глазу на глаз, а в третий раз публично.
Ему потом пришлось вспомнить об этом при совершенно неожиданных обстоятельствах; и один бог знает, какого труда стоило ему сейчас, во время разговора с Барановым, не выразить всего того, что вдруг всколыхнулось в его душе.
Он не знал, прав он или не прав, думая о Баранове то, что он о нем думал, но зато он твердо знал, что сейчас не время и не место для воспоминаний, хороших или плохих – безразлично!
Самым трудным в их разговоре было мгновение, когда Баранов вдруг вопросительно и зло глянул ему прямо в глаза. Но, кажется, он выдержал и этот взгляд, и Баранов ушел успокоенный, по крайней мере судя по его прощальной наглой фразе.
Что ж, пусть так! Он, Серпилин, не желает и не может иметь никаких личных счетов с находящимся у него в подчинении бойцом Барановым. Если тот будет храбро драться, Серпилин поблагодарит его перед строем; если тот честно сложит голову, Серпилин доложит об этом; если тот струсит и побежит, Серпилин прикажет расстрелять его, так же как приказал бы расстрелять всякого другого. Все правильно. Но как тяжело на душе!
Привал сделали около людского жилья, впервые за день попавшегося в лесу. На краю распаханной под огород пустоши стояла старая изба лесника. Тут же, неподалеку, был и колодец, обрадовавший истомленных жарой людей.
Синцов, отведя Баранова к Хорышеву, зашел в избу. Она состояла из двух комнат; дверь во вторую была закрыта; оттуда слышался протяжный, ноющий женский плач. Первая комната была оклеена по бревнам старыми газетами. В правом углу висела божница с бедными, без риз, иконами. На широкой лавке рядом с двумя командирами, зашедшими в избу раньше Синцова, неподвижно и безмолвно сидел строгий восьмидесятилетний старик, одетый во все чистое – белую рубаху и белые порты. Все лицо его было изрезано морщинами, глубокими, как трещины, а на худой шее на истертой медной цепочке висел нательный крест.
Маленькая юркая бабка, наверное, ровесница старика по годам, но казавшаяся гораздо моложе его из-за своих быстрых движений, встретила Синцова поклоном, сняла с завешенной рушником стенной полки еще один граненый стакан и поставила его перед Синцовым на стол, где уже стояли два стакана и бадейка. До прихода Синцова бабка угощала молоком зашедших в избу командиров.
Синцов спросил у нее, нельзя ли чего-нибудь собрать покушать для командира и комиссара дивизии, добавив, что хлеб у них есть свой.
– Чем же угостить теперь, молочком только. – Бабка сокрушенно развела руками. – Разве что печь разжечь, картошки сварить, коли время есть.
Синцов не знал, хватит ли времени, но сварить картошки на всякий случай попросил.
– Старая картошка осталась еще, прошлогодняя... – сказала бабка и стала хлопотать у печки.
Синцов выпил стакан молока; ему хотелось выпить еще, но, заглянув в бадейку, в которой осталось меньше половины, он постеснялся. Оба командира, которым тоже, наверное, хотелось выпить еще по стакану, простились и вышли. Синцов остался с бабкой и стариком. Посуетившись у печки и подложив под дрова лучину, бабка пошла в соседнюю комнату и через минуту вернулась со спичками. Оба раза, когда она открывала и закрывала дверь, громкий ноющий плач всплесками вырывался оттуда.
– Что это у вас, кто плачет? – спросил Синцов.
– Дунька голосит, внучка моя. У ней парня убило. Он сухорукой, его на войну не взяли. Погнали из Нелидова колхозное стадо, он со стадом пошел, и, как шоссе переходили, по ним бомбы сбросили и убили. Второй день воет, – вздохнула бабка.
Она разожгла лучину, поставила на огонь чугунок с уже заранее, наверное для себя, помытой картошкой, потом села рядом со своим стариком на лавке и, облокотясь на стол, пригорюнилась.
– Все у нас на войне. Сыны на войне, внуки на войне. А скоро ли немец сюда придет, а?
– Не знаю.
– А то приходили из Нелидова, говорили, что немец уже в Чаусах был.
– Не знаю. – Синцов и в самом деле не знал, что ответить.
– Должно, скоро, – сказала бабка. – Стада уже пять ден, как гонют, зря бы не стали. И мы вот, – показала она сухонькой рукой на бадейку, – последнее молочко пьем. Тоже корову отдали. Пусть гонют, даст бог, когда и обратно пригонют. Соседка говорила, в Нелидове народу мало осталось, все уходют...
Она говорила все это, а старик сидел и молчал; за все время, что Синцов был в избе, он так и не сказал ни одного слова. Он был очень стар и, казалось, хотел умереть теперь же, не дожидаясь, когда вслед за этими людьми в красноармейской форме в его избу зайдут немцы. И такая грусть охватывала при взгляде на него, такая тоска слышалась в ноющем женском рыдании за стеной, что Синцов не выдержал и вышел, сказав, что сейчас вернется.
Едва спустившись с крыльца, он увидел подходившего к избе Серпилина.
– Товарищ комбриг... – начал он.
Но, опередив его, к Серпилину подбежала давешняя маленькая врачиха и, волнуясь, сказала, что полковник Зайчиков просил сейчас же подойти к нему.
– Потом зайду, если успею, – махнул рукой Серпилин в ответ на просьбу Синцова зайти отдохнуть в избе и свинцовыми шагами пошел за маленькой врачихой.
Зайчиков лежал на носилках в тени, под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой; наверное, он глотал ее с трудом: воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые.
– Я здесь, Николай Петрович. – Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым.
Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия.
– Слушай, Федя, – шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, – застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу.
– Не могу, – дрогнувшим голосом сказал Серпилин.
– Если бы я только сам мучился, а то всех обременяю. – Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово.
– Не могу, – повторил Серпилин.
– Дай пистолет, сам застрелюсь.
Серпилин молчал.
– Ответственности боишься?
– Нельзя тебе стреляться, – собрался наконец с духом Серпилин, – не имеешь права. На людей подействует. Если б мы с тобой вдвоем шли...
Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что, будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться.
– Ах, как я мучаюсь, – он закрыл глаза, – как мучаюсь, Серпилин, если бы ты знал, сил моих нет! Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпила, я ее просил – не дает, говорит, нету. Ты проверь, может, врет?