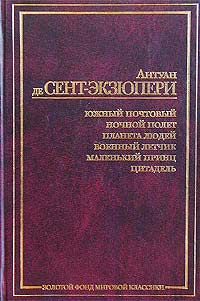Антуан Экзюпери - Цитадель
Хорошо быть такими юными и неискушенными, как вы, — обделенные, несчастные, побежденные, — вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня. Но если я выстрою храм, вы придете в него и я зароню в вас зерна своей веры, а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой, то найдется ли у вас время отчаиваться? Кто из вас не помнит утро победы: умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях, должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщенная толпа — часовней в ее честь.
Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу, любовь, — любовь, которую пробудило, возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшее людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недовольный ворчун-подагрик, в своем тесном домишке, который оказался все же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что распахнулись двери храма и входят туда лишь друзья, которым несть числа.
Так есть ли место отчаянию? Вечное рождение — вот что есть. Есть и непоправимое, оно — знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее, но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала, вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее.
LVIII
Друг тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяге на костыле и с палкой, друг поставит палку и костыль в угол и не попросит бродягу станцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадуется весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг — это та частица в человеке, которая отдана тебе, тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг, все, что он говорит тебе, чистая правда, он любит тебя, даже если в другом доме он ненавидит тебя. В храме мне друг каждый, кого я, благодаря Господу, встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освещенное светом нашего Господа, здесь мы одно, хотя, выйдя из храма, он — лавочник, а я — капитан, он — садовник, а я — матрос. Я встретил его, поднявшись над тем что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты — мне друг, ты дождешься посланцев моего внутреннего царства и обойдешься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь. И обоим нам хорошо. А я? Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошелся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысяче дней пути от меня, едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых распрей повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен.
Знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и дородству, как почувствую себя в доме друга, если он, заметив мои костыли, попросит станцевать, чтобы высказать свое мнение?
В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся, бури неплохо помогают кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к Нему в храм, Он тебя принял.
LIX
Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счетам, а значит, и к взаимной неприязни, — ты ведь помнишь: брось им зерно и узнаешь, как они ненавидят, — то постарайся вернуть им чувство уважения, невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит, видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники. Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. В другое время ты будешь судьей. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обреченного, если он болен. Не страшись этих противоречий, недостаточен наш язык, когда речь идет о человеке. Противоречат друг другу слова, которыми мы изъясняем суть. В осужденном есть тот, кого ты отдал палачу, но есть в нем и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого — неправильно: одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства, от несовершенства слов он так труден для понимания. Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь.
LX
Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы: на людях у нее меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты, щеки у нее розовеют, если кто-то на нее взглянул, — уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь. Но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями.
Скудная, жалкая радость сродни калечеству. Сродни чесотке: кожа зудит и ее с наслаждением расчесывают. Нежность и ласка совсем другое, они — кров, они — надежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щечке — знак, что его оберегают.
Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств. Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается.
Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка, отважный воин, я не считаю, что в нем заговорило тщеславие. Что волнует одного? Что трогает другую? В чем их отличие? Тщеславная, когда она засыпает…
Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось.
Не понять дерева, которое отдает плоды и ничего не получает взамен. Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно. Не понять стараний танцовщицы: она станцевала танец и осталась ни с чем.
Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: «Жертвенность — самое человечное в человеке». И он горд, но не за себя — за человека.
Тщеславные все превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников, мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов. Скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой в его глазах значительнее, чем он сам.
Я хочу, чтобы животворило вас отданное, а не полученное, ибо возвышаешься — отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печется о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах.
Чем одарит тебя твой плод? Возможностью отдавать безвозмездно.
Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы: «Я одаряю красотой, изяществом, величавой поступью.
жизнь моя волей жребия — прекрасный храм, мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое дарение».
У тщеславия и дары подложные. Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод — преображенная земля. Танец — преображенное умение ходить. Кровь воина преображается в храм и царство.
Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбежались и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Свои радости она украла у природы. Не прилагая усилий, расходуется она на кобелей.
А как наслаждается тщеславица чужой завистью! Как ей лестны завистники!
И вот еще одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и, кажется, — дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал с ветки плод, он польщен умом говорящего. Раз нашелся облагодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу.
Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности.
Король одарил улыбкой подданного. «Видите, король меня знает», — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. «Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь», — вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облекся королевским величием. «И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него подданных».