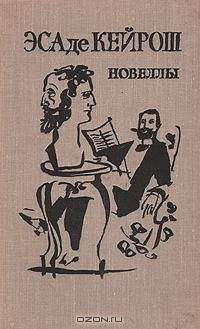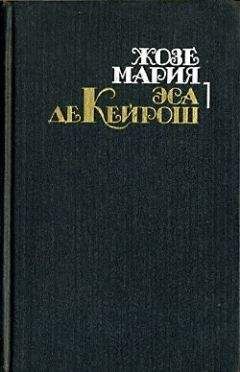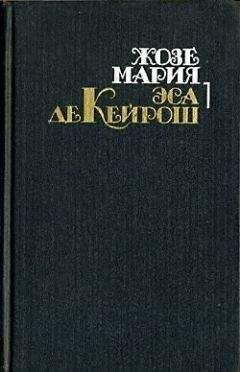Жозе Эса де Кейрош - Знатный род Рамирес
Бедное «Фадо о Рамиресах» потонуло в хаосе нестройных дребезжащих звуков.
— А я ничего такого не слыхал! — бормотал ошарашенный Барроло. — Ни в клубе, ни под аркадой…
— Ты, голубчик, не слыхал, а вот бедный Норонья услыхал, — услыхал, когда над его головой грянул гром! Его высылают в алентежанскую глухомань, в нездоровую, болотистую местность. Это верная смерть. Смертный приговор!
Услышав про болота и про верную смерть, Барроло стукнул себя по колену и недоверчиво вскричал:
— Да кто тебе все это наплел?
Фидалго из Башни смерил зятя презрительным, надменным взглядом.
— Кто наплел? А кто мне наплел, что король дон Себастьян погиб в Алкасар-Кибире! Это общеизвестный факт. Исторический факт. Вся Оливейра знает. Не далее как сегодня утром мы с Гедесом беседовали об этом случае. Но я и раньше знал!.. И даже жалел сеньора губернатора. Черт возьми! Ведь это не преступление — влюбиться! Бедный Андре! Он обезумел, пропал! Даже плакал у себя в кабинете в присутствии ответственного секретаря! А девушка только смеется!.. Но преступление, и гнусное преступление — травить за это ее брата, счетовода, прекрасного чиновника с большими дарованиями!.. Долг каждого честного человека, которому дороги достоинство государства и чистота нравов, — разоблачать низкие происки… Я со своей стороны исполнил этот священный долг. И не без таланта, по милости божией!
— Что ты натворил?
— Вонзил сеньору губернатору в некое место славное толедское острие моего пера, и по самую рукоять!
Барроло подавленно щипал себя за волоски на затылке. Рояль смолк. Грасинья не трогалась с табурета-вертушки; пальцы ее застыли на клавишах, словно она задумалась, глядя на большой лист, где теснились аккуратно выписанные Видейриньей четверостишия во славу Рамиресов. И вдруг по этой неподвижности Гонсало понял все отчаяние Грасиньи. Охваченный острой жалостью, чувствуя, что надо выручить сестру, помочь ей удержаться от слез, он поспешил к роялю и ласково положил руки на бедные склоненные плечи, вздрогнувшие от его прикосновения.
— У тебя ничего не получается, дружок. Дай-ка я спою какой-нибудь куплет, ты увидишь, как делает Видейринья… Но сначала будь ангелом: крикни там, чтобы мне принесли стакан холодной водички «Посо-Вельо»,
Он попробовал клавиатуру и запел напряженным фальцетом первую попавшуюся строфу:
Вот на смертный бой выходят
Пять Рамиресов отважных…
Грасинья бесшумно исчезла за портьерой. Тогда добряк Барроло, сворачивавший с глубокомысленным видом сигарету над японской вазой, вскочил с места и торжествующе выпалил:
— Ну, брат, должен тебе сказать… Сестра Нороньи — лакомый кусочек, это правда. Но что-то не верится, чтобы она заартачилась! Кавалейро — губернатор округа, красавец собой… Нет, не верится! Он таки добился своего!
Его толстые щеки разгорелись от восхищения.
— Каков! Объезжать лошадей и покорять женщин — никто как он во всей Оливейре!
V
Карающая статья в «Портском вестнике» должна была грянуть громом над Оливейрой в среду утром, в день рождения кузины Мендонсы. Хотя Гонсало, защищенный псевдонимом «Ювенал», и не опасался прямой уличной стычки с Кавалейро или с кем-нибудь из его верных и неробких друзей, вроде Марколино из «Независимого оливейранца», — однако предусмотрительно отбыл во вторник в Санта-Иренею. Он ехал верхом; Барроло проводил его до таверны Вендиньи, где они попробовали белого винца, рекомендованного Тито; оттуда, желая освежить в памяти славные места, где произошла (как указывалось в его повести) кровавая встреча Лоуренсо Рамиреса с байонским «Бастардом», фидалго свернул на дорогу, бегущую мимо плодовых садов большой деревни Канта-Педры к Бравайскому тракту.
Он миновал стекольную фабрику, затем высокий придорожный крест, над которым всегда вились голуби, налетающие с фабричной голубятни, и въехал рысцой в местечко Нарсежас. В глаза ему бросился небольшой опрятный домик, увитый виноградом; у окна сидела прехорошенькая смугляночка в синем корсаже и цветной косынке на густых волнистых волосах, аккуратно расчесанных на прямой пробор. Гонсало придержал коня, поклонился и спросил с любезной улыбкой:
— Прошу прощения, милая девушка… Проеду я здесь в Канта-Педру?
— Да, сеньор. После моста возьмите направо, к тополям. И дальше все прямо.
Гонсало, вздохнув, пошутил:
— Я предпочел бы остаться!
Красотка залилась румянцем. Отъезжая, фидалго весь перекосился в седле, чтобы подольше видеть прекрасное смуглое личико, сиявшее между двух вазонов с цветами.
В этот самый миг, сбоку, из зарослей ивняка, вынырнул какой-то малый, на вид деревенский охотник, в куртке и красном берете; за спиной у него висело ружье, следом бежали две легавые собаки. Парень был молодцеватый на вид. Все в нем — и как он размашисто шагал в своих белых сапогах, и как покачивал плечами, выгибая перехваченный шелковым поясом стан, и как поглядывал вокруг, распушив белокурые бакенбарды, — дышало самоуверенностью и вызовом. Он мгновенно подметил улыбку и галантный поклон фидалго и вперил в него красивые, наглые глаза. Потом отвернулся и прошел мимо; он даже не посторонился, чтобы пропустить лошадь на узкой крутой тропе, и чуть не задел ногу фидалго стволом ружья! Мало того, уже пройдя несколько шагов, он сухо, насмешливо кашлянул и еще нахальнее застучал сапогами по дороге.
Гонсало пришпорил коня; он вдруг снова поддался своей злосчастной робости, снова почувствовал знакомую холодную дрожь в спине, которая при малейшей угрозе неизменно понуждала его сжиматься, отступать, бежать. Очутившись внизу, у моста, он замедлил рысь и в бешенстве на свою трусость, оглянулся на утопавший в цветах белый домик. Охотник, опираясь на ружье, стоял под окном, у которого между двух вазонов с гвоздикой сидела, слегка подавшись вперед, смуглая красотка. Парень о чем-то пересмеивался с ней, потом презрительно покосился в сторону фидалго и заносчиво вскинул голову; кисточка на его берете взлетела вверх, точно алый петушиный гребешок.
Гонсало Мендес Рамирес пустил лошадь галопом через лес густолиственных тополей, росших по берегам речки Дас-Донас. Вопреки прежнему намерению, он даже не стал осматривать в Канта-Педре ни долину реки, ни широкие прибрежные луга, ни развалины Рекаданского монастыря, темневшие на косогоре, ни мельницу напротив него, поставленную на почерневшем каменном фундаменте некогда грозной крепости Авеланс. К тому же небо, с утра серо-пепельное, затянулось дымкой, потом стало быстро чернеть над Вилла-Кларой и Кракеде. Ветер беспокойно зашумел в поникшей от зноя листве. Первые тяжелые капли дождя шлепнулись в пыль, когда фидалго выехал на Бравайскую дорогу.
В «Башне» его ждало письмо от Кастаньейро. Патриот жаждал узнать, «создана ли наконец к чести нашей литературы «Башня дона Рамиреса» — верный слепок древней башни, воздвигнутой в более счастливые времена к чести нашего оружия…». В постскриптуме значилось: «Я намерен выпустить огромные анонсы, которые будут расклеены на всех углах всех городов Португалии и оповестят аршинными буквами о рождении «Анналов»! Там будет объявлено, что в первом же номере появится твоя восхитительная повестушка; а потому сообщи, согласен ли ты снабдить ее завлекательным подзаголовком в духе 1830 года, вроде следующего: «Картинки жизни XII века», или «Хроника времен Афонсо II», или «Сцены португальского средневековья». Я решительно стою за подзаголовок: подвалы зданиям, а подзаголовки книгам придают устойчивость и прибавляют высоты. Итак, за дело, дорогой Рамирес! Покажи, на что способно твое могучее воображение…»
Идея расклеить на всех перекрестках Португалии яркие анонсы, рекламирующие повесть и ее автора, пришлась фидалго по вкусу. В тот же вечер, под ровный шум дождя, шелестевшего в листве лимонных деревьев, он снова занялся своей рукописью, которая застряла на первых полнозвучных и мерных строках главы второй.
В этих начальных строках Лоуренсо Мендес Рамирес в сопровождении конных латников и пеших вассалов двигался свежим ранним утром к Монтемору, на подмогу сеньорам инфантам. И вот, выехав в долину Канта-Педры доблестный сын Труктезиндо Рамиреса завидел людей Бастарда: как и говорил Мендо Паес, они с рассвета поджидали здесь войско Рамиресов, чтобы преградить ему путь. В этом месте мрачного повествования о кровопролитиях и смертоубийствах неожиданно, точно роза в трещине крепостной стены, расцветала история любви, изложенная дядей Дуарте с элегическим изяществом.
Лопо де Байон, чья белокожая, рыжекудрая красота, свойственная лишь аристократам чистой готской крови, славилась между Миньо и Доуро и снискала ему прозвище «Огнецвет», горячо полюбил дону Виоланту, младшую дочь Труктезиндо Рамиреса. Он впервые увидел эту царственную красавицу накануне Иванова дня, в замке Ланьозо, куда съехался весь цвет португальского рыцарства на турниры и бои быков. В своей поэмке дяде Дуарте воспевал красоту благородной девицы в восторженных выражениях: