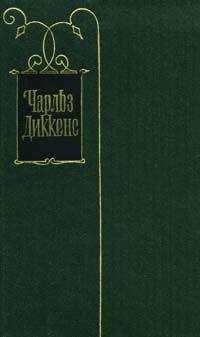Чарльз Диккенс - Картины Италии
Должен сказать, что мне не доводилось видеть ничего более похожего на празднование пятого ноября в Англии[115]. Для полного сходства недоставало только связки фитилей и фонаря. И даже сам папа, приятный и почтенный на вид, не нарушал сходства, ибо эта часть церемонии вызывает у него головокружение и тошноту, и он закрывает глаза, пока она происходит, а его голова в высокой тиаре, покачивающаяся при каждом толчке, кажется маской, которая того и гляди свалится. Два огромных опахала по одну и другую стороны папы, без которых не обходится ни один его выход, были, разумеется, и в этом случае тут как тут. Пока его несли по собору, он благословлял молящихся таинственным мистическим знаком, и все на его пути становились на колени.
После того как он был обнесен вокруг церкви, его снова возвратили на прежнее место, и, если не ошибаюсь, все это было проделано трижды. В этой церемонии не было, разумеется, ничего торжественного или эффектного; и разумеется, тут было много смешного и безвкусного; но мое замечание, относясь ко всей церемонии в целом, не касается одного из моментов ее, а именно поднятия гостии или святых даров, когда все гвардейцы, как по команде, опустились на одно колено, положив обнаженные сабли на пол; это было действительно очень эффектно.
В следующий раз я побывал в соборе спустя две или три недели, и тогда я взобрался под самую маковку купола; теперь драпировки были сняты, ковер свернут, но леса и помост оставлены, и эти остатки праздничного убранства походили на каркас сгоревшего фейерверка.
Пятница и суббота были торжественными церковными праздниками, воскресенье всегда считается в карнавальных увеселениях dies non[116], и мы с некоторым нетерпением и любопытством ждали начала новой недели, так как понедельник и вторник — два последних и самых лучших дня карнавала.
В понедельник, не то в час, не то в два часа пополудни, во дворе гостиницы стал раздаваться громкий стук экипажей и началась суетливая беготня слуг; время от времени на балконе или в дверях мелькал какой-нибудь запоздавший иностранец в маскарадном костюме, еще недостаточно свыкшийся с ним, чтобы уверенно носить его и отважиться выйти в нем в город. Все экипажи были открытыми; обивка сидений была тщательно обтянута белым холстом или коленкором, чтобы она не пострадала от непрерывного обстрела леденцами; в каждую такую коляску, ожидавшую своих седоков, укладывали и втискивали огромные мешки и корзины, полные этих confetti[117] вместе с такими охапками цветов, связанных в небольшие букеты, что некоторые коляски были полны до краев цветами, вываливая при всякой встряске и легком покачивании рессор кое-что из своего изобилия на землю.
Чтобы не отстать от других в этих важных деталях, мы распорядились уложить со всей возможной поспешностью в нанятое нами ландо два внушительных мешка леденцов (каждый вышиной фута в три) и большую бельевую корзину, доверху наполненную цветами. С нашего наблюдательного поста на одном из верхних балконов гостиницы мы с удовольствием следили за этими приготовлениями. Между тем экипажи заполнялись седоками и трогались с места; мы также сели в наше ландо и двинулись в путь, прикрыв лица маленькими проволочными масками — ибо в леденцах, как в поддельном хересе Фальстафа, есть примесь извести.
Корсо — улица длиною с целую милю, улица лавок, дворцов и частных домов, иногда расширяющаяся и образующая просторные площади. Почти у всякого дома есть веранды и балконы самых различных форм и размеров, и притом не только на каком-нибудь одном этаже, но нередко на каждом из этажей, и они размещены, как правило, до того произвольно и беспорядочно, что, если бы из года в год и во все времена года балконы лились на землю с дождем, выпадали с градом, валились со снегом и прилетали с ветром, они и тогда не могли бы расположиться в большем беспорядке.
Эта улица — одновременно исток и центр римского карнавала. Но поскольку все улицы, на которых празднуют карнавал, тщательно охраняются драгунами, приходится сперва проезжать гуськом по другой магистрали, а на Корсо въезжать с конца, противоположного Piazza del Popolo.
Мы влились в поток экипажей и некоторое время ехали достаточно неторопливо: то тащились как черепаха, то вдруг продвигались на полдюжины ярдов, то пятились назад на пятьдесят, а то и совсем останавливались — смотря по напору передних экипажей. Если чья-нибудь нетерпеливая коляска вырывалась вперед, в безумной надежде обогнать других, ее тотчас встречал или догонял конный солдат — неумолимый, как его обнаженная сабля, — который препровождал ее в самый конец очереди, где она едва виднелась крошечной точкой. При случае мы обменивались залпом confetti с экипажами впереди или позади нас, но пока что захват провинившихся экипажей драгунами был основным развлечением.
Затем мы оказались в узкой улице, где помимо потока колясок, двигавшихся в одном направлении, был и встречный поток. Тут леденцы и букеты начали летать вовсю, и это было весьма чувствительно. Мне посчастливилось наблюдать одного господина, одетого греческим воином, который угодил прямо в нос разбойнику со светлыми бакенбардами (последний только что собрался бросить букет юной девице, выглядывавшей в окно бельэтажа) с меткостью, вызвавшей бурные рукоплескания окружающих. Но когда грек-победитель отвечал какой-то забавною шуткой стоявшему в дверях дородному господину в черно-белом одеянии — точно его до половины раздели, — который только что поздравил его с победой, с крыши дома в грека бросили апельсином, попавшим ему прямо в левое ухо, что привело его в крайнее изумление, чтобы не сказать замешательство. И так как грек стоял в этот момент в коляске во весь рост, а коляска неожиданно тронулась, он позорно потерял равновесие и нырнул в ворох цветов.
После четверти часа такой езды мы добрались до Корсо; трудно представить себе что-либо более веселое, более яркое и чарующее, чем зрелище, представшее перед нами. С бесчисленных балконов, самых далеких и самых высоких, так же как с самых близких и самых низких, свисали ткани ярко-красного, ярко-зеленого, ярко-синего, белого и золотистого цвета, трепетавшие в лучах солнца. Из окон, с перил и с кровель струились полотнища флагов ярких цветов и драпировки самых веселых и богатейших оттенков. Дома, казалось, вывернулись наизнанку в буквальном смысле слова и выставили на улицу все, что было в них нарядного. Ставни лавок были открыты, и витрины заполнены людьми как театральные ложи; двери были сняты с петель, и за ними виднелись длинные сени, увешанные коврами, гирляндами цветов и вечнозеленых растений; строительные леса превратились в пышные храмы, одетые серебром, золотом и пурпуром; в каждом закоулке и уголке, от мостовой до верхушек печных труб, всюду, где только могли блестеть глаза женщин, они плясали, смеялись и искрились как свет на воде. В нарядах господствовало самое обворожительное сумасбродство. Короткие, дерзкие алые жакетки; чопорные старинные нагрудники, соблазнительнее самых затейливых корсажей; польские шубки, тесно схватывающие стан и готовые лопнуть, как спелый крыжовник: крошечные греческие шапочки, надетые набекрень и бог весть каким чудом не спадавшие с темных волос; любая необузданная, причудливая, дерзкая, робкая, своенравная и взбалмошная фантазия проявила себя в этих нарядах; и любая из них тут же забывалась в вихре веселья — и так основательно, точно три сохранившихся акведука доставили в тот день в Рим на своих прочных арках воду из самой Леты[118].
Экипажи двигались теперь по трое в ряд; в более широких местах — по четыре; иногда они подолгу стояли, и все были сплошной массой ярких красок, и сами казались на фоне цветочного ливня цветами больших размеров. Лошади были покрыты нарядными попонами или украшены от головы до хвоста развевающимися лентами. У некоторых кучеров было два огромных лица: одно косило глаза на лошадей, другое заглядывало в экипаж с самым уморительным выражением; и по каждой из этих масок барабанил град леденцов. Другие кучера были в женских нарядах; у них были длинные кудри и непокрытые головы, и, когда возникали какие-нибудь серьезные затруднения с лошадьми (а в такой тесноте их возникало великое множество), эти возницы-женщины выглядели такими смешными, что об этом ни рассказать, ни пером описать.
Вместо того чтобы сидеть в экипажах, красивые римлянки, желая лучше видеть и себя показать, располагаются в эти часы всяческих и всеобщих вольностей на откидном верхе своих ландо, поставив ножки на сиденье — и как же они прелестны: развевающиеся платья, тонкие талии, роскошные формы и смеющиеся лица — непосредственвые, веселые, праздничные! Были тут и большие фуры, полные миловидных девушек — в каждой по тридцать, а то и поболее; когда шел обстрел этих волшебных брандеров[119], цветы и конфеты летали в воздухе по десять минут подряд. Экипажи, застряв надолго ни одном месте, завязывали бой с соседними экипажами или зрителями в нижних окнах домов, а публика, расположившаяся на верхних балконах или смотревшая из верхних окон, вмешивалась в схватку и, нападая на обе стороны, высыпала на них леденцы из больших мешков, которые опускались как облако и в мгновение ока делали противников белыми, как мельников. И опять экипажи за экипажами, наряды за нарядами, краски за красками, толпы за толпами, и так без конца. Мужчины и мальчишки хватались за колеса экипажей, прицеплялись к ним сзади или бежали следом, ныряя под ноги лошадей, чтобы подобрать брошенные цветы и снова пустить их в продажу. Пешие маски (обычно самые забавные) в фантастически-карикатурных придворных костюмах рассматривали толпу через огромнейшие лорнеты и неизменно загорались пылкою страстью, завидев в окне какую-нибудь весьма престарелую даму. Длинные вереницы polici-nelli[120], колотивших всех встречных надутыми бычьими пузырями, привязанными к палкам; телега, полная сумасшедших, вопивших и метавшихся, как настоящие: коляска, битком набитая суровыми мамелюками с бунчуком, воткнутым посередине; группа цыганок в яростной перебранке с командой матросов; человек-обезьяна, восседавший на шесте среди невиданных животных со свиными рылами и львиными хвостами, которые они либо держали под мышкой либо небрежно перебрасывали через плечо; экипажи за экипажами, наряды за нарядами, краски за красками, толпы за толпами, и так без конца. По сравнению с общим числом ряженых здесь, пожалуй, немного костюмов, выдержанных в одном стиле, но главное очарование этого зрелища — в неизменном добродушии; в бесконечном ярком разнообразии; в том, как все отдаются праздничному настроению — и так самозабвенно, с такой заразительной веселостью, что самый солидный иностранец сражается, стоя по пояс в цветах и леденцах, не хуже самого неистового из римлян, и забывает все на свете до половины пятого, когда трубный сигнал и драгуны, начинающие очищать улицы, заставляют его очнуться и с сожалением вспомнить, что в жизни есть еще и другие дела.