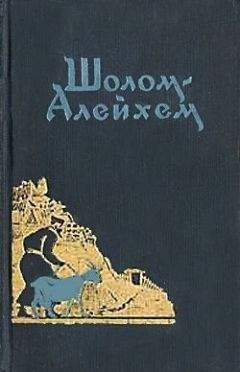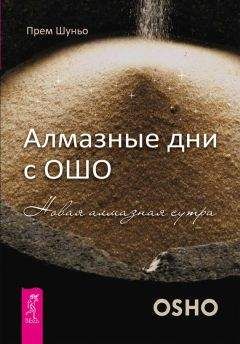Михаил Зенкевич - Мужицкий сфинкс
Бродя за канавой кладбища вдоль подсолнухов, я стараюсь представить себе по рассказам последний сев Павла Парменыча и его внезапную смерть в поле...
В ту весну грачи прилетели рано: земля еще была под снегом. Фиолетово-черные, искрясь на солнце радужным золотом, медленно расхаживали они хозяйственной походкой вразвалку (походкой пахаря, идущего в тяжелых сапогах с налипшими комьями по пашне) и долбили толстыми клювами наст, тщетно выискивая лошадиный помет с овсом на редких одноколейных дорогах. Не найдя поживы в полях, грачи нагрянули на село, но и тут все было необычайно пусто и тихо. Побродив по снеговым лужицам, голодные грачи снялись и всей стаей уселись на старых, дуплистых ветлах у пруда и долго возбужденно каркали в мартовскую зеленовато-палевую зарю, пока совсем не стемнело.
Жуткая тишина, ни собачьего лая, ни петушиного крика, только перезванивают от ветра колокола, то как набат, то как по покойнику, то как пасхальный трезвон.
Павел Парменыч ворочается в овчине на печке и не может заснуть. Мучат мелкие назойливые мысли о хозяйстве, обычные, те же, что и днем, но сейчас, ночью перед рассветом, они принимают преувеличенно мучительные размеры, вызывая тошнотную тоску и ноющую боль под сердцем. Кажется, что хозяйство развалилось и его ничем уже не наладить. Все, что можно было продать или выменять на хлеб, уже продано. Сундуки с одежей пусты, опустел даже кованный светлой жестью с расписными розанами девичий сундучок Наташи, где хранилось ее приданое. Последнее тряпье увез Семен выменивать в Смоленскую губернию на рожь и на овес. Привезет ли, не свалится ли дорогой где в тифу, как Алексей, который вот уже пять недель лежит без памяти в горячке? Удастся ли вовремя получить семена и посеять яровое?
Павел Парменыч слез с печи и, тихо ступая по скрипящим половицам ногами, обутыми в толстые, вязанные из домашней шерсти носки, подошел к Алексею: не помер ли? Потом вышел посмотреть, целы ли лошадь и корова — на ночь их, чтоб не украли, ставили в сенцы.
А перед самым рассветом ненадолго забылся, и ему приснился чудной сон.
Будто идет он в чистых полотняных рубахе и портках босиком по полю и сеет. Через плечи у него вместо ведерка перекинута на липовой лыке ладанка, и, сколько ни берет он из нее зерна, ладанка не пустеет. Земля теплая, мягкая, легкая, как пух, сама скользит под ногами и не липнет. Зерна пшеницы — наливные, крупные, как горох, так и летят между пальцев и сами падают рядами, ровно из сеялки. Идет Павел Парменыч и радуется, как легко спорится посев. Потом оборачивается и видит, что огромное черное поле пусто, никто сзади не боронует. Только далеко-далеко, спотыкаясь, бежит по пашне Наташа, машет рукой и кличет: «Воротись, дедушка, воротись!» Но Павлу Парменычу не до нее: он боится, как бы грачи не склевали сев. Вороной горластой стаей мотаются они неводом над ним, как над ветлами у пруда, каркают, пакостят, но на пашню не спускаются и пшеницу не клюют. Смотрит Павел Парменыч на зерна и видит, что они не хлебные, а червонные, даже фольга от них пристает к руке, и ладонь, и пальцы у него вызолочены и светятся. Наташи позади уже не видно, черное поле кончается, и огненным частоколом стоят на пригорке небывало высокие подсолнухи, а над ними раскрытыми настежь воротами раскидывается тройная радуга...
Когда Павел Парменыч проснулся, старуха уже возилась, гремя ухватами у затопленной печки, а Наташа успела сходить за водой.
— Фаня-то отмаялась. Померла нынче в ночь. Марфушка Наташе у колозца сказывала, — сообщила старуха новость.
— Ей ништо теперь, — равнодушно отозвался Павел Парменыч и, шлепая глубокими кожаными калошами, вышел в сенцы, где Наташа уже доила. Корова недавно отелилась, но с голоду так отощала, что давала мало удою, и молоко было жидкое, синеватое, как снятое, — едва хватало для ребятишек. Исхудалая, понурая лошадь с трудом передвигала ноги, точно опоенная.
— Куды с таким маханом пахать, — уныло думал Павел Парменыч, выводя лошадь, задевшую копытом о порог. Двор пустой и голый, вся солома с крыш разобрана на корм скотине. Жерди и слеги торчат обглоданными ребрами. Всех кур порезали еще осенью. Зарезали и овец, и другую корову. А вторая лошадь, на которой Семен уехал на земляные работы на Волгу, пала зимой — с одной сбруей в мешке вернулся он домой пешком. Среди двора, как петух, важно разгуливал крупный лоснящийся грач.
— Ишь какой жирный! — с досадой выругался Павел Парменыч и спугнул непрошенного гостя. Но тот и не подумал улетать, а только отошел подальше к воротам. Слетевшиеся грачи в поисках пищи безбоязненно, как воробьи, лезли прямо под копыта лошади.
— Здорово, Павел Парменыч. Никак ты грачей заместо кур доржишь? — окликнул старика неожиданно из калитки звонкий певучий тенорок.
Это Авксентий Егорыч, председатель сельсовета, невзрачный, с реденькой мочальной бороденкой мужичонка, в заячьем малахае, хлопотун и говорун. Авксентий Егорыч еще при царе сидел в тюрьме за аграрные беспорядки, и односельчане постоянно выбирают его на мирские должности, хотя и подшучивают, что он «чужие крыши кроет, а своя течет».
— Ты вот што, дядя Павел. Захаживай к полудню в совет. Семена привезли. Выдавать будем на посев.
Услышав про семена, Павел Парменыч заволновался и хотел подробно расспросить обо всем Авксентия Егорыча, но тот уже щелкнул щеколдой и исчез так же неожиданно и быстро, как и появился.
Наскоро позавтракав горячей пустой похлебкой и куском подсолнечного колоба вместо хлеба, Павел Парменыч захватил на всякий случай два мешка и пошел в сельсовет. Здесь уже толпилась кучка взбудораженных галдящих мужиков с худыми скуластыми лицами и лихорадочными глазами. В сенях у весов стояло несколько пятериковых мешков, и около них, проверяя что-то по бумаге, суетился Авксентий Егорыч.
— Павел Парменов Ламихов, — выкликнул он по списку. — Сколько у тебя осенью засеяно и под зябь поднято?
— Две десятины под рожью да десятины две, мотри, с осминником под зябью.
— Из этой получки на твою долю приходится один пуд 24 фунта пшеницы и 17 фунтов овса. Расписывайся и получай.
Расписавшись двумя загогулинами, Павел Парменыч подошел к весам и старательно их уравнивал и проверял, чтобы вес был точный.
— Ты куды залезла! — огрызнулся вдруг один из мужиков на незаметно вошедшую в сени старуху, пытавшуюся утащить пригоршню зерна из мешка. — Пошла вон отселева, стерьва.
Но старуха, худая и страшная (на нее уже раз составляли протокол за трупоедство), не ушла, а стояла на пороге и издали трупными глазами жадно и тупо смотрела на отвешивание семян, как опасающаяся пинка сапогом собака при рубке туши в мясной лавке.
Павел Парменыч получил семена одним из первых и с трудом донес двухпудовую ношу. Несколько раз садился и передыхал от одышки. Дома его все радостно обступили, словно он привез дорогих гостинцев с ярмарки, щупали и перебирали зерно, как бисер.
— Пшеница хорошая, сибирка, — решил Павел Парменыч. — Не знай, как примется. И овес неплохой, только волглый, надо подсушить.
Он перевязал надвое мешок и подвесил его к балке, чтобы не залезли мыши. И сразу в угрюмой избе стало уютней и светлей, точно засветили огонь в красном углу. Хотелось хлопотать и работать, как перед большим праздником.
Роясь в сарае, Павел Парменыч наткнулся на старый вентерь и сетку и вспомнил, что щука начинает метать икру. До света, затемно, встал он и пошел на речку. Раздувшаяся от половодья мелкая степная речка бурлила и катилась мутным весенним потоком поверх тальника и камышей. Увязая в глине, добрался Павел Парменыч до знакомого обрыва и стал водить по дну сеткой, как черпаком. Солнце поднималось, и измученный Павел Парменыч уже собирался бросить напрасную ловлю, как вдруг, вытаскивая сетку, заметил в ней блеснувшую большую щуку, тяжело хлопнувшую на берег и бьющуюся высокими прыжками. Павел Парменыч бросился на щуку, но не удержался и покатился вместе с ней по обрыву. Наконец подмял животом и ухватил у самой воды. Щука, матерая и икряная, внезапно выхваченная из весенней снеговой воды, скользила стальным телом, щерилась, кололась перьями плавников и яростно, извиваясь змеей, била хвостом. Но Павел Парменыч вцепился под жабры клешнями пальцев и сунул ее в мешок. Придя домой, он сам разрезал и выпотрошил все еще бьющуюся щуку и бросил ее в чугун, где она и выпотрошенная долго шевелила голубыми плавниками и дышала кровавыми жабрами, пока вода не закипела.
Хлебая за столом жирную уху и поглядывая на мешок с зерном, Павел Парменыч чувствовал, как с каждой ложкой крепнет и веселеет, точно хищная омутовая щучья сила входила в него и растекалась по высохшим от голодухи жилам.
Сеять яровое Павлу Парменычу пришлось самому: Алексей еще не оправился после тифа, а Семен не вернулся из поездки. О пахоте нечего и думать, лошадь слишком плоха. Нужно прямо рассевать по осенней зяби под борону. По дороге в поле Павел Парменыч встретил мужика с телегой, в которую вместо лошади была запряжена корова. Мужик шел понурясь, глядя куда-то в сторону, видимо стыдясь такого срама. Корова еле переступала ногами, мотая пересохшее дряблое вымя. Павел Парменыч пожалел мужика и невольно почувствовал гордость: как-никак, а он все же сумел сохранить лошадь и остаться хозяином.