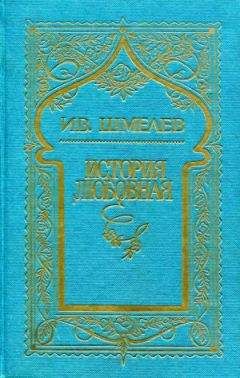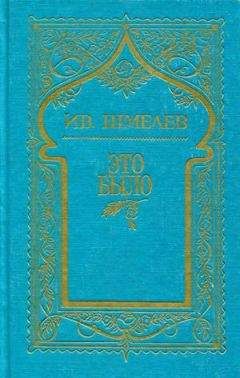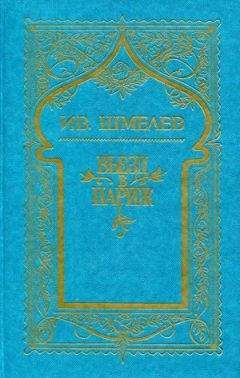Иван Шмелев - История любовная
– Да неужели четыре тысячи! – радостно удивился я, приглашая и толстуху подивиться, хотя уже не раз слышал, что «такой лисички и не найти».
– Не неужели, а… Как бы это вам…? – поискал Василь Василич кругом себя, бодаясь железными очками. – Да вот-с… Вы вот, Пелагея Ивановна, приносили лисий спорочек мне надысь, просили три ста!… – сказал он толстухе в бородавках.
Я оглянулся, будто только сейчас заметил, и вежливо поклонился Пелагее Ивановне. Она приветливо закивала мне. Должно быть, стояла она на ящике, – скрипела чем-то. Мне было очень приятно, что Пелагея Ивановна любуется мехами.
– Он и дороже стоил… – сказала Пелагея Ивановна.
– Стоил! Совсем это другой разговор-с. А теперь его и моль поточила, и ости-то уж нету, одна подсада, жидкая да белесая… сами знаете! Не лиса, а прямо… мездра одна! прямо, можно сказать, кошачья выхухоль!…
– Нет, какая же это выхухоль! – обиделась Пелагея Ивановна. – Не так чтобы уж, а… лиса приличная. Что вы уж лисичку-то мою так?…
– Ну, я ничего такого не говорю, ваша лисичка совсем середняя и, понятно, она лисичка… да ведь она сиводушная!… у ей краснины-то и в свадьбу не было! А вы – три ста! Коли уж за вашу сиводуху три ста, чего ж тогда за эту-то положить? Мало, что она чернобура, не в этом дело-с!… А вот хребтовая она вся, чернь чернью-с! Да нет, за такую лисицу и семи мало! Вот как я вам осортирую… десять тыщ, и ни копейки меньше! Вот как хотите-с…
И он принялся поглаживать лисичку.
– Да неужели даже де-сять тысяч?! – приглашал я подивиться со мною и Пелагею Ивановну. – Такая, Василь Василич, маленькая, – и де-сять тысяч!…
– Ма-ленькая?… Это-то, по-вашему, маленькая?! Ну, тогда вы, стало быть, настоящей лисы и не видали-с! Да тут ее будет… шкурок двадцать! Вы вот на Ильинку подите, справьтесь. Всю проедете, а пяти даже шкурок не найдете! Я такую для покойного Государя Александра Николаевича подбирал, от них приезжали камергеры… У Сорокоумовского я тогда был меховщиком! Понятно, я все-таки для их нашел, но… только семнадцать шкурок. И не лучше этих. Ее мастеру дать нельзя! А выколачивать-то как надо совестливо!…
Я покосился на Пелагею Ивановну и воскликнул:
– Неужели даже для Государя Императора могли отыскать всего только семнадцать шкурок, как эти?!. – хотя про «семнадцать шкурок» я и в прошлом году слыхал.
– Для лисы все едино, что царь, что мы с вами… – сказал Василь Василич. – Не стала разводиться, истребилась. Может, и есть где по глухим местам. А на Ильинку не попадает!…
– Ну, а этот бобровый воротник?… Покойный папаша отказал его мне. Когда я выро… то есть по окончании гимназии. Он, должно быть, не очень хороший?…
Про этот воротник я знал. Но мне хотелось, чтобы и Пелагея Ивановна знала.
– Этот не хороший?… – сердито сказал Василь Василич, высматривая поверх очков и так оглядывая воротник, будто только впервые видит. – Да это ж кам-чатский бобрик!…
Он взял воротник за бортики и так перетряхнул ловко, что хлопнуло из него, как из пистолета.
– Да за такого боберчика… на кузнецкие цены ежели… Ну, что за него просить?… – спросил самого себя Василь Василич, задумчиво склонив голову, и оглянул воротник любовно.
Он нежно его погладил, подул до мездры, любуясь, как побежало беловатыми звездочками, задумался…
– Тысячки… три-четыре? Да не найтить. Серебрецо живое-с! Вот будете, сударь, жениться, на плечико шинельку… залюбованье!…
Во мне заиграло смущение и гордость. Пелагея Ивановна засмеялась.
– А на невесту да чернобурую ротонду!… – пропела она льстиво, – и будете такая пара!…
Сердце мое взыграло. Я невольно взглянул на галерею: если бы и она полюбовалась! Но на галерее были одни герани.
Я с восхищением примечал, как Пелагея Ивановна шарила по мехам глазами. Какая масса! Одни еще полеживали в куче, другие, выбитые уже, расчесанные щеткой, висели на веревках спустя рукава и лоснились; третьи – полосовались жигачами. Хотелось крикнуть: «Все, все это – для нее одной Пелагея Ивановна!» Хотелось, чтобы еще и еще рассказывал милый Василь Василич.
– Нет, Василь Василич!… – сказал я нарочно громко, чтобы и с галереи услыхали. – Мне меха не нужны! Я не придаю ни малейшего значения этим… тряпкам! Я думаю посвятить себя науке! Когда кончу университет, то поеду от Географического общества в ученую экспедицию вокруг света, исследовать… Есть еще такие страны, где совсем еще не ступала нога ни одного европейца, как, например, Гренландия и полюсы! Там царство пушных зверей, и попадаются иногда такие роскошные меха, что…
– Вот и нам, может, привезете!… – засмеялась Пелагея Ивановна.
– Что же, я с удовольствием!… – посмотрел я на галерею. – Хотя я с научной целью, а не для торговли, но это очень приятно, привезти… Как, например, знаменитый путешественник Пржевальский, в «Вокруг света» недавно было…
Но тут толстуха, должно быть, оступилась и полетела с ящика.
Все захохотали, высунулся из-за забора Карих, и я ушел.
XXVI
Наскоро пообедав, я сейчас же пошел к себе и достал кованый сундучок-шкатулку, от Сергия-Троицы, где хранились ее разноцветные записочки. Было тут и другое: голубенькое Пашино яичко, шпилька консерваторки Любы, когда-то меня поцеловавшей, коралловый крестик, который подарила мне Фирочка-епархиалка, дочка священника, ее записочка со словами: «не забудь ты меня, что люблю я… не тибя», и локон ее волос. Были и еще редкости: крабья лапка, «выловленная у берегов Африки», – подарок Женьки, «Гималайский камень, привезенный знаменитым путешественником», – тоже подарок Женьки, сухая травка из Палестины, купленная за три копейки у странницы и оказавшаяся полынью, и зуб необыкновенной величины, «тигровый», подарок Василь Василича. Но все покрывалось – ею! Все – пропиталось чудесными ароматами Востока.
Я лег на кровать и в неземном блаженстве перечитывал ее письма, в которых знал наизусть все буковки и кляксы. Читал и читал обжигающие слова – «я хочу лечь своим „прекрасным телом“ в постель», «вы что-то во мне затронули», «Буди(е!)те во мне странные ощущения», «а много в вашем ко(а!)лчане стрелок?», «будем охотиться»?…
Что это она хочет сказать – «будем охотиться?» Что значит – «много ли стрелок»? То есть сильно ли я люблю? Я вспоминал в истоме, как она шептала – «дайте ваши губы скорей…» – как прижимала свои зубы к моим зубам…
Я поцеловал полные неги ее письма, полные, быть может, муки… Писала же она – «я очень одинока!…» и «теперь… как бы я хотела не ехать!»…
Одинока!… Боже мой, кто, какие люди окружают ее?! Мать, грубая, развращенная старуха, которая на глазах дочери принимает своего обожателя, этого урода «Рожу»! Пошлый фельдшер, который притаскивает кульки с казенным мясом и коньяком и похож духовной стороной своего существа на Санхо-Панчо! И этот студент с дубинкой, позволяющий себе в ее присутствии говорить: «И я… как Люцифер, тебе возьму… и будешь ты вопить проклятья…» Ты, вопить!… «и вспоминать свово(!) Кузьму!»? И он – Кузьма действительно! Его фельдшер называл Кузьма Кузьмич! Почему же он – ее Кузьма?! Это величайший цинизм и профанация!… И она, бедная, обречена влачить свою жизнь в среде пошлой, так напоминающей Ноздрева, Коробочку, Собакевича, Чичикова и прочих лиц бессмертной поэмы Гоголя! И этот ужасный Карих, который носит на себе некоторые черты Плюшкина и Чичикова, вместе взятых! И она, как бриллиант среди этого грязного навоза, среди этих отбросов человечества, сияет незапятнанной чистотой и красотой! Она массу читает, и, конечно, только это может нравственно поддержать ее в постепенно засасывающей ее зловонной тине! Она инстинктивно хватается за мою нравственную поддержку! Она пишет: «Я недостойна вашей нетронутой чистоты»! Она называет себя грешной, обыкновенной, даже – «бабенкой»! Какая поразительная скромность, которая характеризует ее с самой высокой стороны! Боже, как я ее люблю! Теперь, узнав ее по этим полным скрытой любви и муки письмам, я ее и люблю и уважаю. Я прямо чувствую, как она подымает меня в отношении нравственных оценок! Что я – без нее, без женщины? Значение прекрасной женщины в истории нравственного человеческого роста – очень громадно! Любовь к женщине будит в мужчине таинственные струны, расширяет его кругозор, вызывает самые благотворные эмоции! Вот почему и Зинаида – может быть, тоже предмет страсти И. С. Тургенева? – дала и ему высокоблаготворный толчок для его творчества, как знаменитого писателя! Нет, женщина не ядро каторжника, а огонь, зажигающий кровь… крылья Икара!… Вот я… сразу постиг всю геометрию, сыплю стихами и напишу любое сочинение! О, Серафима! Ты мне даешь восторги, упоенья, и я, как великий поэт Пушкин, восклицаю: да, мне «явилось вновь: и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слава, и любовь!» Потом я думал, как Пелагея Ивановна расскажет ей про меха. Женщины так любят одеваться, особенно в меха! Даже Паша купила кошачий воротник! И «молодая» Пастухова… с Костюшкой поругалась, что ей «под соболя» купили, а не соболий! Пелагея Ивановна расскажет ей, какие чудные у нас меха! Она, конечно, поразится и скажет: «Он все положит к моим ногам!» И я рисовал ее себе в ротонде, из голубого бархата. Чернобурый лисий воротник, громадный… полы распахнулись, видно, что чернобурая лисица.