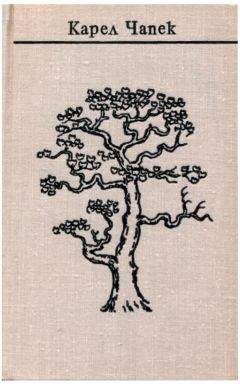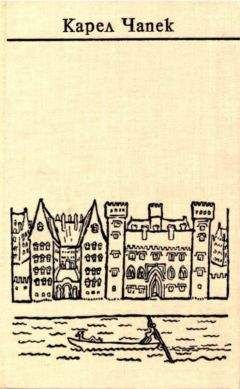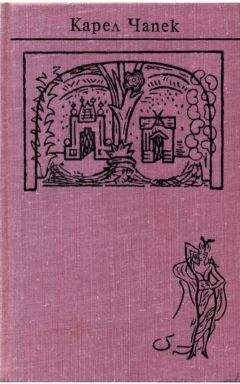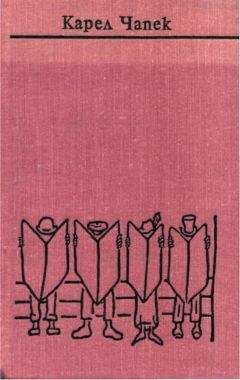Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 2. Романы
— Нет, — ответил Бонди, — видите ли, я предвидел, что там, на севере, такое стрясется, ну и убрался подобру-поздорову. Надеялся, что здесь спокойнее.
— Спокойнее? Вы еще не знаете наших чернокожих молодцов! Да тут понемножку все время война идет, приятель!
— О нет! — защищался Г. X. Бонди. — Здесь на самом деле царил мир. Эти папуасы, или как вы их там называете, вполне приличные парни. Только в последнее время они как-то… того… что-то хорохорятся. И знаете, я толком так и не разобрал, чего они хотят…
— Ничего особенного, — ответил капитан, — просто они хотят нас слопать.
— С голоду? — изумился пан Бонди.
— Не знаю. Скорее всего, из благочестивых побуждений. Такой обряд, понимаете? Вроде причастия, что ли. У них это нет-нет да и прорвется.
— Ах, вот как, — пробормотал пан Бонди в задумчивости.
— Всякому свое, — ворчал капитан, — у них здесь одна страсть: сожрать чужестранца и закоптить его голову.
— Еще и голову закоптить? — Бонди передернуло от омерзения.
— Да это уже после того, как убьют, — утешил его капитан. — Они берегут головы на память. Вы видели сушеные головы в Окленде, в этнографическом музее?
— Нет, — сказал Бонди, — я думаю… не такое уж это привлекательное зрелище — моя копченая голова.
— Пожалуй, вы для этого слишком полноваты, — позволил себе сделать критическое замечание капитан. — Худой от копчения не изменяется так основательно.
Весь вид пана Бонди изобличал необычайное беспокойство. Поникнув, сидел он в своем бунгало на коралловом острове Герегетуа, который приобрел перед самым началом Величайшей Войны. Капитан Трабл неодобрительно хмурился, поглядывая на заросли манговых деревьев и бананов, окружавшие бунгало.
— А сколько здесь туземцев? — неожиданно спросил он.
— Примерно сто двадцать, — ответил Г. X. Бонди.
— А нас?
— Семь вместе с поваром-китайцем.
Капитан вздохнул и поглядел на море. Там стояла на якоре его яхта «Папеета», но, чтобы попасть на нее, пришлось бы пройти по узкой тропинке, петлявшей в манговой чаще, что представлялось ему совсем небезопасным.
— Алло, маэстро, — окликнул он Бонди немного погодя, — собственно, чего они там не поделили? Границы какие-нибудь?
— Куда там! Сущие пустяки!
— Колонии?
— И того пустяковее.
— О… торговые договора?
— Нет. Всего-навсего истину.
— Какую такую истину?
— Абсолютную истину. Понимаете, каждый народ хочет знать абсолютную истину.
— Гм, — буркнул капитан, — а, собственно, с чем ее лопают, эту истину?
— Да ничего тут особенного нет, просто такая у людей страсть. Вы слышали, что там, в Европе, и вообще… везде… объявился этот… как его?.. ну, понимаете… бог.
— Слышал.
— Так вот, это все от него, понимаете?
— Нет, не понимаю, мил человек. По-моему, всамделишный бог навел бы на свете порядок. А этот ваш ненормальный и невсамделишный.
— О нет, сударь, — возразил Г. X. Бонди, явно обрадовавшись возможности поговорить с бывалым человеком, имеющим свои взгляды на вещи. — Я вам говорю, этот бог настоящий. Но, признаюсь, он слишком великий.
— Думаете?
— Думаю. Он бесконечный. И в этом вся загвоздка. Понимаете, каждый норовит урвать от него кусок и думает, что это и есть весь бог. Присвоит себе малую толику или обрезок, а воображает: вот, мол, он целиком в моих руках. Каково, а?
— Ага, — поддакнул капитан, — да еще злится на тех, у кого другие куски.
— Вот именно. А чтоб самого себя убедить, что у него-то он целиком, кидается убивать остальных. Понимаете ли, как раз потому, что для него важно завладеть всем богом и всей истиной. Потому он не может смириться, что у кого-то еще есть свой бог и своя истина. Если это допустить, то придется признать, что у него самого всего-навсего несколько мизерных метров, или там галлонов, или мешков божьей правды. Предположим, если бы какой-нибудь Снипперс был всерьез убежден, что только его, Снипперсов, трикотаж — лучший в мире, он без зазрения совести сжег бы на костре любого Массона вместе со всем его трикотажем. Да только пока дело идет о трикотаже, Снипперс головы не теряет. Но он становится нетерпим, когда речь заходит об английской политике или о религии. Если бы он верил, что бог — это так же солидно и необходимо, как трикотаж, он позволил бы, чтобы всяк оснастил его по-своему. Но вы понимаете, в этом вопросе у него нет такой уверенности, как в торговле; поэтому он навязывает людям Снипперсова бога или же Снипперсову истину — навязывает, ведя споры, войны, через всякую дешевую рекламу. Я торговец и разбираюсь в конкуренции, но это…
— Минутку, — прервал его капитан Трабл и, тщательно прицелившись, пальнул по манговым зарослям. — Вот так. Теперь, по-моему, одним меньше.
— Пал за веру, — мечтательно вздохнул Бонди, — и вы, применив насилие, помешали ему сожрать меня. Он погиб, защищая национальный идеал людоеда. В Европе люди испокон веков пожирали друг друга из-за каких-то там идеалов. Вы, капитан, — милый человек, но вполне вероятно, что, поспорь мы из-за какого-нибудь мореходного принципа, вы бы меня пристукнули. Видите, я и вам не верю.
— Прекрасно, — заворчал капитан, — стоит мне на вас посмотреть, и я становлюсь…
— Отъявленным антисемитом, да? Это ничего, я ведь перешел в христианство, я, видите ли, выкрест. А знаете, капитан, что нашло на этих черных паяцев? Позавчера они выловили в море японскую атомную торпеду. Установили ее вон там, под кокосовыми пальмами, и теперь поклоняются. Теперь у них есть свой бог. И ради него они готовы сожрать нас.
Из манговых зарослей загремел воинственный клич.
— Слышите, — заворчал капитан, — честное слово, лучше уж снова сдавать экзамены по геометрии.
— Послушайте, — зашептал Бонди, — а нельзя ли нам перейти в их веру? Что касается меня…
В этот момент на «Папеете» грохнул пушечный выстрел. Капитан слабо вскрикнул от радости.
Глава 28
У семи халуп
Пока армии ведут бои всемирно-исторического значения, и границы государств извиваются, словно дождевые черви, и весь свет образует гигантскую свалку, старая бабушка Благоушова У Семи Халуп чистит картошку, дедушка Благоуш сидит на порожке и покуривает себе буковые листья, а их соседка Проузова, опершись о плетень, задумчиво вздыхает:
— Ну и ну!..
— И то сказать, — соглашается Благоуш.
— И то, и то, — подхватывает Благоушка.
— Вот оно так и выходит, — откликается Проузова.
— Что верно, то верно, — замечает дедушка Благоуш.
— Ничего не поделаешь, — добавляет Благоушка, принимаясь за новую картофелину.
— Бают, тальянцу крепко наложили, — припоминает Благоуш.
— Да кто же наклал-то?
— Да будто бы турки.
— Это что ж, выходит, конец, поди, войне-то?
— Куда там! Нынче все сызнова, шваб попрет.
— На нас?
— Сказывают, супротив французов.
— Господи, выходит, сызнова все вздорожает!
— Охо-хо-хо-хо!.. Вздорожает.
— Вот тебе и «охо-хо-хо».
— И то верно.
— А еще сказывали, будто швейцар писал, что все уже кончить пора.
— Вот и я так говорю.
— Да, а я ноне за свечку полторы тыщи отдала. Такая вонючая свечка — для хлева.
— И та будто полторы вам встала?
— То-то и оно. Какая же дороговизна, милые вы мои!
— И то правда.
— И то, и то.
— И кто когда о том думал? Полторы тыщи!
— А раньше-то за две сотни всего — и на тебе, хорошая свечка.
— Да что вы, бабушка, когда это было! Оно и яичко, бывало, достанешь за пять-то сотен.
— И фунт масла за три тысячи.
— Да какое масло-то!
— И сапоги за восемь тыщ.
— Да что, Благоушка, дешевая прежде жизнь была.
— А нынче-то…
— Охо-хо-хо-хо…
— И когда этому конец придет…
Помолчали. Старый Благоуш поднялся, распрямил спину и отправился поискать себе соломинку.
— Да и то сказать, — проговорил он самому себе под нос и развинтил трубку, чтобы легче было ее чистить.
— Небось уж смердит, — живо подметила Благоушка.
— Смердит, — подтвердил Благоуш. — Как не смердеть? Ведь уж и табак на свете перевелся. Последнюю пачку сын принес, когда служил учителем. Постой, это же в сорок девятом было, а?
— На рождество ровно четыре года минет.
— И то, — согласился Благоуш, — стареем, ох, стареем!
— А я-то говорю, сосед, — начала Проузка, — и чевой-то она все идет да идет?
— Что идет-то?
— Да вот эта война.
— Да кто ж ее знает, — глубокомысленно рассудил Благоуш и дунул в трубку, так что в ней засипело. — Того никто не ведает, соседка. Сказывают, из-за веры это.
— Из-за какой же веры-то?
— Из-за нашей, а может, из-за лютерьянской, кто ж его знает! Дескать, чтоб была одна вера.