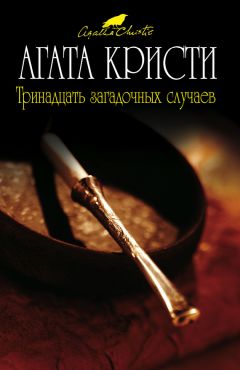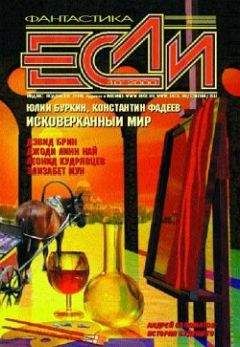Генри Джеймс - Трофеи Пойнтона
— Да, — сказала она наконец, — если ваша женитьба не состоится, она отдаст все, что увезла.
— Вот поэтому Мона и колеблется, — честно признался Оуэн. — Я имею в виду, она считает: если она откажется от меня, я все себе возвращу.
На мгновение Фледа задумалась.
— Вы имеете в виду, она колеблется, выходить ли за вас, но готова, не колеблясь, распрощаться с вами?
Оуэн несколько смешался.
— Она не видит смысла продолжать наши отношения, раз я все еще не дал этому делу законный ход. Она на этом настаивает и очень возмущена, что я этого не делаю. Она говорит, что это единственный верный способ, и считает меня трусом. Она дала мне срок, потом еще один. И теперь говорит, что я слишком много maman позволяю. Она говорит: я мямля и только время теряю. Вот почему она дает задний ход. Понимаете?
— Не совсем. Конечно, вы должны дать ей все, что предлагали; конечно, вы должны быть верным своему слову. Тут двух мнений быть не может, — заявила Фледа.
Смущение, владевшее Оуэном, заметно усилилось.
— Значит, вы находите — как и она, — что я должен напустить на maman полицию?
Смесь нежелания и зависимости, прозвучавшая в его вопросе, вызвала в ней покаянное чувство: она подвела его. Еще хуже — «турнула».
— Нет, нет, еще нет! — вырвалось у нее, хотя, по сути, ничего иного и ничего лучшего она подсказать не могла. — Не кажется ли вам, — спросила она мгновение спустя, — что, если Мона, как вы говорите, дает задний ход, у нее, возможно, очень высокие мотивы? Ей известна огромная ценность тех вещей, которые удерживает ваша матушка, и, желая вернуть вам трофеи Пойнтона, она готова — именно так! — пойти на жертву. Она жертвует помолвкой, которую была счастлива заключить.
Если минутой раньше Оуэн был в замешательстве, то этот аргумент он отвел весьма успешно — настолько успешно, что ответ прозвучал сразу и решительно:
— Вот уж нет. Не из того она теста! Она хочет их для себя, — добавил он. — Хочет знать, что они ее. Ей все равно, буду я владеть ими или нет! И если она их не получит, я ей не нужен. Ничего не нужно, если она их не получит.
Сказано это было крайне категорично. Слушая его, Фледа упивалась.
— Неужели они представляют для нее такой интерес?
— Выходит, что так.
— Неужели они для нее — все, в такой степени все, что и остальное полностью только от них и зависит?
Оуэн взвешивал ее вопрос, словно понимая, какой ответственности требует ответ. Но ответ последовал мгновенно и, что не укрылось от Фледы, был готов уже давным-давно.
— Они никогда не вызывали в ней особенный интерес, пока ей не показалось, что они в опасности. Теперь они у нее из головы не выходят, а если ей что засело в голову… Тут только держись!
Он умолк, не договорив и отводя глаза, словно поняв всю бесполезность словесных изъяснений; впервые со времени их знакомства Фледа услышала, чтобы он так четко что-то объяснял и даже пускался в обобщения. Как удивительно, как трогательно, умилялась она, пока Оуэн в замешательстве молчал, что он оказался способным, пусть наполовину, довести свое обобщение до конца. Впрочем, она сама была пока в силах заполнить оставленные им лакуны: ведь она еще тогда, во время визита Моны в Пойнтон, предугадала, что произойдет в случае катастрофы, которую Оуэн только сейчас узрел. Она еще там собственными глазами видела, что некая мысль засела у его суженой в голове.
— Ну да ладно. Налейте-ка мне чаю! — вдруг совершенно некстати и с излишней фамильярностью закончил он.
Все это время ее чрезмерные приготовления к чаепитию оставались без последствий, и она со смехом — как сама почувствовала, неуместным — поспешила удовлетворить его просьбу.
— Чай, наверное, ужасный, — сказала она. — У нас вообще нет ничего хорошего.
Она предложила ему бутерброд, за который он и принялся, держа чашку с блюдцем в другой руке и разгуливая по комнате. Она и себе налила чаю, но только для виду и без всякой охоты положила в рот кружок засохшего печенья. Ее поразило, что нежелание, владевшее ею в Риксе, лишний раз произнести в разговоре имя бедной Моны, теперь начисто исчезло, и под влиянием обретенной свободы она вдруг решилась:
— Я правильно вас поняла: она обручилась с вами без любви?
Оуэн не отрывал взгляда от Рафаэль-роуд.
— Нет, она любила меня. Очень. Но долго выдерживать напряжение ей не под силу.
— Напряжение? Из-за чего?
— Ну из-за всей этой дрянной истории.
— История, что и говорить, дрянная, и я вполне могу понять, как болезненно она на нее действует, — сказала Фледа.
Ее гость резко повернулся кругом.
— Можете? — Глаза у него засветились. — Можете понять, что из-за этого у нее портится настроение и что она бросается на меня. Она ведет себя со мной так, будто я ей нисколько не нужен!
Фледа задумалась:
— Она мучается от сознания обиды.
— Вот как! Я, что ли, причинил ей обиду? Разве я не делаю все, что могу, чтобы уладить это дело?
С минуту его раздражение против Моны из-за тона вопроса воспринималось как раздражение против Фледы; и это сходство, в свою очередь, обратило внимание нашей юной леди на то, как он красив, когда говорит — впервые в ее присутствии — с таким пылом и употребляет слова вроде «причинять обиду». К тому же его запальчивость еще живее напомнила ей, какой эфемерной оказалась ее помощь.
— Да, вы вели себя безупречно, — сказала она. — Вам выпала безумно трудная роль. Вам нужно было проявлять с вашей матушкой такт и терпимость, но также и твердость, и вы блистательно с этим справились. А вот я, ненароком, вас подвела. Ничем не помогла вам добиться успеха.
— Но вы, как бы то ни было, не лишите меня своего расположения? — всполошился Оуэн. Ему явно очень важно было знать, действительно ли она оправдывает Мону. — Конечно, если бы вы были расположены ко мне, как расположена она, — пояснил он. Вопрос был не в бровь, а в глаз, и Фледе только и хватило времени сообразить, что ей необходимо укрыть свое смятение за вопросом еще щекотливее:
— Мой ответ будет точнее, если я буду знать, что вы были достаточно внимательны к Моне. Ведь вы были внимательны к ней? — спросила она как можно просто.
— Более чем, мисс Ветч! — вскричал Оуэн. — Исполнял все ее желания. Помчался с огнем и мечом, сами видели, в Рикс на следующий же день после разговора в Уотербате. — Тут он запнулся, хотя как раз тут начиналось для Фледы самое интересное. В лице его, пока он ставил чашку на стол, появилось новое выражение. — Впрочем, с какой стати я вам это докладываю? Какой мне от этого прок? Вам, насколько я понимаю, нечего мне сказать, кроме как предложить моему адвокату действовать. Так приказать ему действовать?
Фледа едва слышала, что он говорил; совершенно новая мысль пришла ей внезапно в голову:
— Скажите, когда вы, после разговора со мной, поехали в Уотербат, вы ей все рассказали?
— Все? — переспросил он, явно понимая, о чем речь.
— Что у вас был долгий разговор со мной, а с вашей матушкой вы не виделись?
— О да. Я в точности все ей изложил: и то, что вы были ко мне в высшей степени добры и что я передал это дело в ваши руки.
Секунду-другую Фледа молчала.
— Может быть, ей это не понравилось, — предположила она.
— Ужасно не понравилось, — подтвердил Оуэн, смешавшись.
— Ужасно? — взволнованно повторила Фледа, и от этого слова ей почему-то стало не по себе.
— Она сказала, что желает знать, по какому праву вы вмешиваетесь. Она заявила, что вы проныра и бестия.
— О! — вырвалось у Фледы с долгим всхлипом. Но тут же она взяла себя в руки. — Разумеется.
— Она оскорбляла вас, а я защищал. Она сказала про вас…
Фледа жестом остановила его:
— Я не хочу про это знать!
Она покраснела до самых глаз, которые — словно от удара по лицу — налились слезами. Какое падение в ее полете, какой удар по ее старанию сохранить Моне все, на что та имела право. Вот так! Пока она старалась, напрягая все силы души, предмет ее великодушия клеймил ее «пронырой и бестией». Но, проглотив все это, она секунду спустя уже смогла улыбнуться. Правда, ее вряд ли удивило бы услышать, что улыбка выглядит странной.
— Вы только что сказали, что мы с вашей матушкой поссорились из-за вас. Куда вернее: вы с Моной поссорились из-за меня.
Оуэн ответил не сразу.
— Я, знаете ли, имел в виду, — выжал он наконец, — что Моне, скажем так, взбрело в голову приревновать меня.
— Вот оно что, — сказала Фледа. — Что и говорить, наши совещания выглядели очень необычно.
— Они выглядели превосходно и были превосходны. И я сказал ей, да, сказал, какое вы чудо! — провозгласил молодой человек.
— Но от этого она не стала любить меня больше.
— Не стала, — вздохнул Оуэн. — И меня тоже. Хотя, конечно, она, знаете ли, говорит, что любит меня.
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)