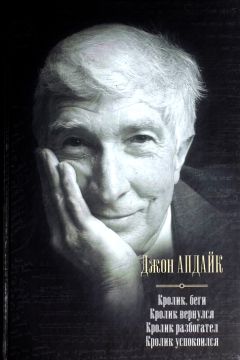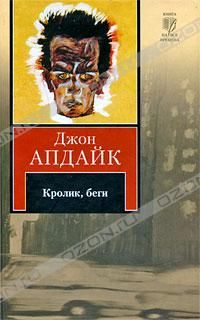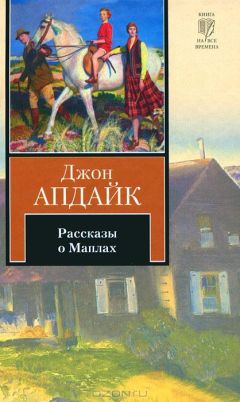Джон Апдайк - Кролик, беги
Когда цветение сада ее покойного супруга достигает апогея, миссис Смит выходит из дома и, опираясь на руку Кролика, отправляется в самую гущу плантации рододендронов. Некогда рослая, она теперь сгорбилась и сморщилась; замешкавшиеся в седых волосах черные пряди кажутся грязными. Она обычно ходит с тростью, но, видимо, в рассеянности вешает ее на руку и ковыляет дальше, а трость болтается на руке, словно диковинные браслет. За своего садовника она держится так: он сгибает правую руку, так что локоть оказывается вровень с ее плечом, она поднимает свою трясущуюся левую руку и распухшими веснушчатыми пальцами цепко охватывает его запястье. Она как лоза на стене: если покрепче дернуть, она оторвется, а если не трогать выдержит любую непогоду. Он чувствует, как на каждом шагу все ее тело вздрагивает, а голова при каждом слове дергается. Не то чтобы ей было трудно говорить, просто ее охватывает радость общения, от которой нос ее отчаянно морщится, а губы над выступающими вперед зубами комически и в то же время застенчиво растягиваются в гримасе тринадцатилетней девчонки, которая беспрерывно подчеркивает, что она некрасива. Она рывком поднимает голову, чтобы взглянуть на Гарри, и ее потрескавшиеся голубые глаза под напором скрытой в их глубине жизни вылезают из маленьких коричневых орбит, собранных складочками, как будто сквозь них продернули множество тесемок.
– О, я терпеть не могу «Миссис Р. – С.Холкрофт» <название одного из сортов рододендрона>, она вся такая пошлая и линялая. Гарри очень любил эти оранжево-розовые тона. Я, бывало, говорю ему: «Если я хочу красный цвет, дай мне красный – сочную красную розу. А если я хочу белый, дай мне белый – высокую белую лилию, и не морочь мне голову всеми этими межеумками – чуть-чуть розоватыми или лиловато-синеватыми, которые сами не знают, чего им надо. Рододендрон – сладкоречивое растение, – говорила я Гарри, у него есть мозги, и потому он дает тебе всего понемножку». Конечно, я это говорила, просто чтобы его подразнить, но я и вправду так думала.
Эта мысль как будто ее поразила. Как вкопанная, она останавливается на травянистой тропинке, и глаза ее, с радужками, белесыми, как битое стекло внутри устойчиво голубых колец, нервно перекатываются, оглядывая его то с одной, то с другой стороны.
– Да, я и вправду так думала; Я – дочь фермера, мистер Энгстром, и я бы скорее хотела, чтобы эту землю засеяли люцерной. Я ему, бывало, говорю: «Если тебе так уж приспичило копаться в земле, почему бы не посеять пшеницу, а я буду печь хлеб». И пекла бы, уж будьте уверены. «На что нам все эти букетики – они отцветают, а потом круглый год гляди на их уродливые листья, – говорю я ему. – Может, ты их для какой-нибудь красотки выращиваешь?» Он был моложе меня, вот я его и дразнила. Не скажу вам, насколько моложе. Чего мы тут стоим? Такое старое туловище где-нибудь подольше постоит, глядишь, уже и в землю вросло. – Она тычет палкой в траву – знак, чтобы он протянул ей руку. Они идут дальше по цветущей аллее. – Никогда не думала, что я его переживу. Но уж очень он был слаб. Придет домой из сада, сядет и сидит. Дочь фермера, ей никогда не понять, что это значит – сидеть.
Ее слабые пальцы трепещут на его запястье, как верхушки гигантских елей. Эти деревья всегда ассоциируются в его сознании с запретными владениями, и ему приятно находиться под их защитой, по эту сторону.
– Ага. Вот наконец настоящее растение. – Они останавливаются на повороте дорожки, и миссис Смит показывает своей трясущейся палкой на маленький рододендрон, весь усыпанный соцветиями чистейшего розового цвета. – Это любимый цветок моего Гарри – «Бианки». Единственный рододендрон, кроме некоторых белых, – я забыла их имена, они все какие-то дурацкие, – который говорит то, что он думает. Единственный по-настоящему розовый из всех, какие тут есть. Когда Гарри его получил, он сперва посадил его среди остальных розовых, и рядом с ним они сразу стали казаться такими грязными, что он их все повыдирал и окружил этого «Бианки» малиновыми. Малиновые уже отцвели, да? Ведь уже июнь?
Ее безумные глаза окидывают Гарри диким взглядом, а пальцы еще крепче впиваются в руку.
– Не знаю. Впрочем, нет. День поминовения павших в войнах <отмечается 30 мая> будет еще только в следующую субботу.
– О, я так хорошо помню тот день, когда мы получили это дурацкое растение. Жарища! Мы поехали в Нью-Йорк, взяли его с парохода и водрузили на заднее сиденье «паккарда», словно любимую тетушку или еще какое-нибудь такое же сокровище. Оно приехало в большой деревянной синей кадке с землей. В Англии всего один питомник выращивал этот сорт, и одна только перевозка обошлась в двести долларов. Каждый день специально нанятый человек спускался в трюм его поливать. Жарища, кошмарные заторы в Джерси-Сити и Трентоне, а этот чахлый кустик восседает себе в своей синей кадке на заднем сиденье, словно принц крови! Тогда еще не было всех этих автострад, и потому в Нью-Йорк мы добирались добрых шесть часов. Самый разгар кризиса, а впечатление такое, словно все на свете купили себе автомобили. Через Делавэр тогда переезжали возле Берлингтона. Это было до войны. Вы, наверное, не знаете, о какой войне я говорю. Вы, наверно, думаете, что «война» – это та корейская заварушка.
– Нет, под войной я всегда подразумеваю Вторую мировую.
– Я тоже! Я тоже! Вы в самом деле ее помните?
– Еще бы. Я был уже большой. Я расплющивал банки от консервов, сдавал металлолом, а на вырученные деньги покупал военные марки, и за нашу помощь фронту мы в начальной школе получали награды.
– Нашего сына убили.
– О, мне очень жаль.
– Он был уже старый, он был старый. Ему было почти сорок. Его сразу же произвели в офицеры.
– Но...
– Знаю. Вы думаете, что убивают только молодых.
– Да, все так думают.
– Это была хорошая война. Не то что первая. Мы должны были победить, и мы победили. Все войны отвратительны, но в этой войне мы победили, и это прекрасно. – Она снова показывает палкой на розовое растение. – В тот день, когда мы приехали из порта, оно, конечно, не цвело, потому что лето уже кончилось, и я считала, что просто глупо везти его на заднем сиденье, как... как... – она понимает, что повторяется, запинается, но продолжает:
– ...как принца крови. – Почти совсем прозрачные голубые глаза зорко следят, не смеется ли он над ее старческим многословием. Не усмотрев ничего подозрительного, она выпаливает:
– Он – единственный!
– Единственный «Бианки»?
– Да! Вот именно! Во всех Соединенных Штатах такого больше нет. Другого настоящего розового нет от «Золотых Ворот» до... докуда угодно. До Бруклинского моста <знаменитые мосты, один в Сан-Франциско, другой в Нью-Йорке>, так, кажется, принято говорить. Все, что есть настоящего розового во всей стране, находится здесь у нас перед глазами. Один цветовод из Ланкастера взял у нас несколько черенков, но они все погибли. Наверное, задушил известью. Глупец. Грек.
Она вцепляется в его руку и движется вперед еще тяжелее и быстрее. Солнце уже высоко, и ей, наверно, пора домой. В листве гудят пчелы, бранятся невидимые птицы. Волна листьев догнала волну цветов, и от свежей зелени веет еле заметным горьковатым запахом. Клены, березы, дубы, вязы и конские каштаны образуют редкий лесок, который то более широкой, то более узкой полосой окаймляет дальнюю границу усадьбы. В прохладной сыроватой тени между лужайкой и этой рощей все еще цветут рододендроны, но на солнце посредине лужайки они уже осыпались, и лепестки аккуратными рядами лежат по краям травяных дорожек.
– Мне это не нравится, нет, не нравится, – произносит миссис Смит, ковыляя об руку с Кроликом вдоль этих остатков былого великолепия. – Я ценю красоту, но предпочла бы люцерну. Одна женщина... не знаю, почему меня это так раздражало... Хорейс вечно зазывал соседей любоваться цветами, он во многом был как ребенок. Так вот, эта женщина, миссис Фостер, она жила у подножия холма в маленькой оранжевой хижине, где по ставням лазала серая кошка, она вечно твердила – повернется ко мне, помада у нее чуть не до самого носа, и говорит, – приторно-сладким голосом щебечет старуха, вся дрожа от злорадства, – «ах, говорит, миссис Смит, наверное, только на небесах бывает такая красота!». Однажды я ей сказала, я уже больше не могла сдерживать свой язык, и я взяла да и сказала: «Если я каждое воскресенье езжу шесть миль туда и обратно в епископальную церковь святого Иоанна, только чтоб полюбоваться еще одной кучкой рододендронов, то я с таким же успехом могла бы сэкономить эти мили, потому что я вовсе не желаю туда ездить». Разве не ужасно, когда старая грешница такое говорит?
– Да нет, что вы.
– И к тому же несчастной женщине, которая всего лишь хотела быть любезной. Ни капли мозга в голове, красилась, как молодая идиотка. Теперь она уже скончалась, бедняжка. Альма Фостер скончалась две или три зимы назад. Теперь она познала истину, а я еще нет.