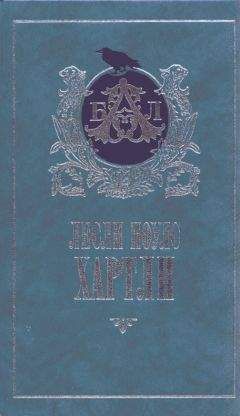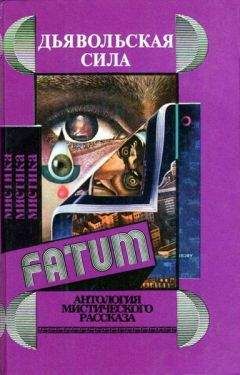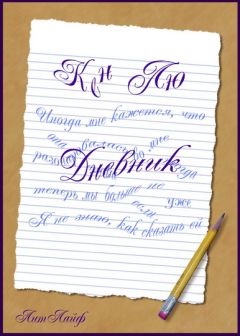Лесли Хартли - Посредник
Каким был следующий бросок, я не помню, но неожиданно увидел: голова и торс Теда резко повернулись вокруг своей оси, а мяч по прямой восходящей линии летит прямо ко мне, будто между нами протянули провод. Тед было рванулся с места, но тут же замер и с удивлением воззрился на меня, не веря собственным глазам.
Я выбросил руку над головой — и прервал полет мяча, но сила инерции швырнула меня наземь. Мяч я притиснул к груди, будто у меня заболело сердце, и когда наконец с трудом поднялся на ноги, меня оглушил сладостный звук аплодисментов; тут же я увидел, что игроки расходятся со своих позиций, а ко мне шагает лорд Тримингем. Не припомню, что он сказал — меня буквально распирало от избытка чувств, — но поздравления его были сдержанны и спокойны, и оттого еще более ценны, так, наверное, он поздравил бы мужчину; именно мужчиной, и далеко не самым никчемным, я присоединился к игрокам, направлявшимся к павильону. Все мы, проигравшие и победители, шли вперемежку, от враждебности не осталось и следа, а зрители совсем расщедрились и колотили в ладоши пуще прежнего. Не берусь описать свое состояние: ликование захлестнуло меня с головой и потопило все вехи, по каким я ориентировался в таких делах. Я еще парил в воздухе, хотя помосты вознесших меня событий уже рухнули. Однако было и некое отдельное ощущение, выделявшееся из общей сумятицы чувств: когда я поймал мяч, меня вдруг пронзила боль сожаления, острая, как укол шпаги. Но ликование мое нисколько от этого не уменьшилось, а забурлило еще сильнее — когда счастье бьет ключом, капля горечи лишь придает ему аромат. Что-то подсказывало: я буду еще счастливее, если поделюсь этой тайной с Тедом, стану ближе к небу еще на целый локоть. Наверное, такие излияния не приняты, свои переживания крикетисты скрывают за внешней холодностью. Но я почти буквально не чуял под собой ног — ведь я решил судьбу матча, возьму и наплюю на условности! Только как к такому признанию отнесется Тед? Каково ему сейчас? Рад ли он, что так ловко оборонял калитку, или горько разочарован — до победы не хватило самой малости? Останемся мы друзьями, или теперь я — низвергнувший его враг? Все это, однако, не слишком меня занимало: увидев, что он идет один (почти все игроки уже выговорились), я пристроился рядом и сказал:
— Извините, Тед. Я вовсе не хотел вас выбить, правда.
Он остановился и с улыбкой глянул на меня.
— Что ж, рад это слышать, — произнес он. — Но мяч вы поймали мастерски, это точно. Никак не думал, что вы его удержите. По правде говоря, я совсем забыл, что на левой стороне поля кто-то есть, а потом оборачиваюсь и вижу — стоит, караулит. Ну, думаю, ничего, пролетит над головой, он и не достанет, а вы распрямились, будто пружина какая. Я уж чувствовал — скоро вылечу, но не думал не гадал, что фитиля мне вставит наш почтальон.
— Я не хотел, — повторил я; шутки шутками, но все-таки надо извиниться.
В эту минуту хлопков прибавилось, ретивые болельщики стали выкрикивать имя Теда. Мы все уходили с поля героями, но кумиром публики сегодня был, конечно, он; я нарочно поотстал — пусть выходит один. В павильоне партнеры с восторженными криками накинулись на него; даже дамы из Брэндем-Холла, сидевшие впереди, не без любопытства проводили Теда взглядами. Все, кроме одной. Я заметил, что Мариан даже не подняла головы.
Как только мы вернулись в Брэндем-Холл, я сказал Маркусу:
— Старина, дай-ка мне твой листок с записью счета.
— А сам ты, кувшинное рыло, что же не вел? — спросил он.
— Да я же играл, олух ты несусветный, как же я мог считать?
— Это кто играл? Ты, что ли, жалкий микроб? А не шутишь?
Тут я ему показал, где раки зимуют, потом вытребовал запись счета и стал переписывать на свой листок недостающие сведения.
«Пр. Берджес вбт игры, л-д Тримингем 81», — прочитал я. — Эй ты, порождение ада, мог бы и мою фамилию написать.
— Хватит с тебя «вбт игры», — засмеялся он. — К тому же я хочу, чтобы у этой записи был приличный вид, а твоя фамилия испортит мне всю обедню.
ГЛАВА 13
Ужин в сельском клубе почтила своим присутствием местная знать и, конечно, игроки обеих команд; казалось, в жизни моей не было столь замечательного празднества. Гирлянды, флаги, духота, витавший над всем дух товарищества (его я ценил особо) ударили в голову не слабее рейнвейна, налитого в мой стакан. Порой я начисто забывал, что существую самостоятельно; душа моя уносилась куда-то под остроконечный потолок клуба и порхала там среди английских флажков и лент серпантина — ни дать ни взять небесное тело, спутник звезд. Мне казалось: я выполнил свое предназначение в жизни, больше стремиться не к чему, теперь все оставшиеся мне годы могу стричь купоны. Моим ближайшим соседям по столу, игрокам деревенской команды (нас посадили через одного; было решено, что на этом демократическом сборище обитатели Холла не должны сидеть рядом друг с другом), я едва ли показался общительным — я свободно говорил с ними на языке души, но слов почти не находилось. Впрочем, их это мало тревожило: они исправно очищали свои тарелки да время от времени перебрасывались какими-то фразами, будто меня и не было вовсе. Фраз этих я почти не понимал, но соседи то и дело разражались громовым хохотом. Да что там — им хватало даже кивка, легкого хмыканья, и скоро весь мир в моем одурманенном мозгу зашелся от смеха.
После ужина мистер Модсли произнес речь. Я думал, он будет запинаться — никогда не слышал от него больше дюжины слов подряд. Но он оказался на диво красноречивым. Одно предложение вытекало из другого, будто он говорил по-писаному; голос же, как и при чтении молитв, был бесстрастный и монотонный. К тому же он говорил быстро, и кое-какие его шутки оказались выстрелами вхолостую; но уж те, что «дошли», прошли на ура, именно потому, что были выданы без эмоций. С величайшим, как мне показалось, искусством, он сумел сказать почти о каждом из игроков, выделить в игре каждого что-то свое, заметное. Обычно речи я пропускал мимо ушей, считал, что они, как и молитвы, предназначены для взрослых; но эту слушал внимательно — надеялся услышать свое имя и не был разочарован.
— И последний, о ком я хотел сказать — последний только по росту, — это наш юный Давид, Лео Колстон, сразивший Голиафа с Черной фермы, если можно так выразиться; он не пользовался пращой, но сам поймал снаряд, пущенный противником.
Все обернулись в мою сторону — по крайне мере, мне так показалось; а Тед, сидевший почти напротив, залихватски мне подмигнул. В пиджачной паре и высоком крахмальном воротничке он был похож на себя еще меньше, чем во фланелевых брюках. Чем больше он надевал одежды, тем меньше походил на себя. Лорд Тримингем являл со своей одеждой одно целое, стоило же Теду принарядиться — и он превращался в деревенского вахлака.
Дальше речи слились для меня в один жужжащий звук, будто стал слышен бег времени; потом пришел черед пения. На возвышении в конце зала помещалось пианино, перед ним призывно стоял вращающийся табурет с плюшевым сиденьем. Но по залу пронесся ропот, смысл которого вскоре дошел и до меня: где же аккомпаниатор? Его приглашали, но он почему-то не явился. Последовало объяснение. Оказывается, он прислал записку, что ему нездоровится, однако Бог знает почему обнаружилась она только сейчас. Послышались разочарованные возгласы. Какой же крикетный матч, какой же ужин без песен? На наши разогретые вином души вдруг накатила волна прохлады, а вина, чтобы прогнать ее, уже не было. Час ранний, весь вечер впереди, и занять его нечем. А может, найдутся добровольцы, заменят заболевшего? Неодинаковые глаза лорда Тримингема, в глубине которых, как всегда, поблескивала власть, обежали помещение, но все старательно отводили взгляды, словно он был аукционистом; точно помню, что я не отрывал глаз от скатерти — немножко умел играть на фортепьяно, и Маркус это знал. Но вот, когда все, казалось, приросли к своим сиденьям, боясь пошевелиться и поднять голову, готовые разглядывать собственные ботинки, пока кто-нибудь не вызовется аккомпанировать, вдруг произошло какое-то движение, легкий всплеск по вертикали, будто вскинули знамя; не успели мы расслабить наши застывшие от напряжения тела, как вдоль прохода быстро прошла Мариан и села на табурет возле пианино. До чего же она была очаровательна в голубом платье, — такие видишь на картинах Гейнсборо, — между свечами! Она взглянула на нас оттуда, словно с трона. Взглянула задорно, но и с хитрецой: я свое дело сделала, теперь ваша очередь.
Как я потом узнал, по традиции полагалось, чтобы прежде всего пели участники матча: всех их по очереди вызывали на сцену, а некоторых пытались вытолкнуть силой, но для собравшихся не было секретом, кто знает толк в пении, а кто нет. Первые, как выяснилось, принесли с собой ноты, которые извлекали на свет божий, словно фокусники, одни — виновато и стеснительно, другие — с вызовом. Но все певцы трепетали перед Мариан, аккомпаниатором, и держались от нее как можно дальше. Играла она превосходно, и я больше слушал не песни, а ее. Изящные белые пальцы Мариан (да, да, белые, хотя солнце светило без передышки) скользили по клавишам, и какие прекрасные звуки она ухитрялась извлекать из этой старой дребезжащей развалюхи! Было ясно, что клавиатура разболтана, но музыка лилась плавным журчащим ручейком. Сколько огня было в громких пассажах, сколько нежности в тихих! Некоторые клавиши западали, но Мариан чудесным образом выдергивала их и заставляла работать. Тактичный и искусный аккомпаниатор, она следовала за певцами и не пыталась подгонять или придерживать их; но музыкальное мастерство ее и певцов никак нельзя было поставить на одну доску, она превосходила их на голову, будто чистопородного скакуна запрягли в одну упряжку с ломовой лошадью. Зрители это понимали, и за их аплодисментами стояло уважение, но и подначка.