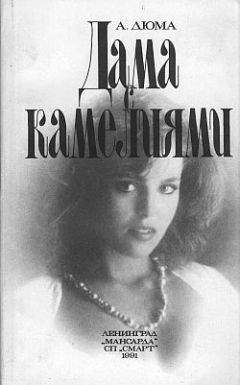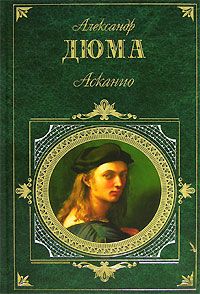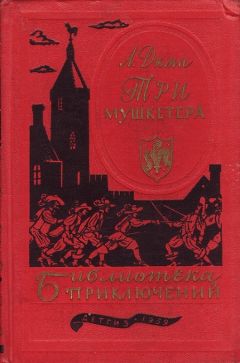Александр Дюма - Исповедь фаворитки
– Ступайте же, дорогое дитя, – промолвил сэр Джон. – Ступайте принимать почести, вы их заслужили.
И он повлек меня в оранжерею, где я, едва появившись, была тотчас окружена, меня поздравляли, мне аплодировали все, кроме сэра Гарри: он отошел в сторону. Но его глаза говорили мне больше, чем самые бурные аплодисменты и похвалы друзей.
XVII
Представление, однако, еще не завершилось: после сцены на балконе нам еще предстояло сыграть сцену у окна; за всплеском желания мы должны были изобразить и восхождение к вершинам счастья.
Второго испытания я очень опасалась и тихонько просила сэра Джона и громко – его друзей избавить меня от него, ссылаясь на свою усталость; при всем том нервная дрожь во всех членах, блеск глаз, лихорадочное напряжение голоса свидетельствовали об обратном, о том, что ни в каком отдыхе я не нуждалась.
Собравшиеся принялись настаивать. Мое сердце вторило их просьбам, я не могла сопротивляться долго и поддалась.
На этот раз, как следует из пьесы, мы должны были появиться на балконе вместе с сэром Гарри: моя рука охватит его шею, глаза утонут в глуби его зрачков, а наши сердца будут трепетать от любви.
И вот сэр Гарри оказался со мной в этих импровизированных декорациях.
Он придвинулся ко мне, его рука обвила мою талию, он прижал меня к груди и прошептал единственное слово:
– Наконец-то!
Я почувствовала, как между нами как бы пробежала искра. Мои веки смежились, руки стиснули его шею, из груди вырвался легкий вскрик, а затем, не знаю, как все произошло, но мои губы словно обожгло. Это был не первый поцелуй Джульетты, но первый, данный ей Ромео.
Мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание.
Сэр Гарри увлек меня к окну. Невероятным усилием воли я взяла себя в руки, однако целая ночь любви не подготовила бы меня лучше к тому прощанию, полному одновременно нежности и боли, которое предшествует вечной разлуке веронских любовников.
Наше появление было встречено всеобщими рукоплесканиями.
Начинать предстояло мне; скажу откровенно, никакое сколь угодно глубокое изучение актерского мастерства не придало бы моему голосу большей правдивости, чем состояние моего собственного сердца.
Поэтому эти прекрасные строки Шекспира:
Уходишь ты? Еще не рассвело.
Нас оглушил не жаворонка голос,
А пенье соловья… —
полились из моих губ слаще меда, а когда сэр Гарри отвечал мне, что ничего так не желает, как остаться подле меня, умереть за меня, трехкратный взрыв аплодисментов оповестил меня о том, что каждый из присутствовавших готов оказаться на месте моего Ромео.
Наша сцена продолжалась, проходя через все оттенки чувства, которые с такой изобретательностью живописал гений Шекспира, однако, когда Ромео был вынужден вырваться из моих объятий, мне показалось, что моя душа покидает тело, и, совершенно разбитая, я без сил рухнула на колени.
Зрители приняли это за наитие, озарившее мое сердце, хотя то была просто телесная слабость.
Остаток сцены я играла, свесившись через балкон и вцепившись руками в балконную решетку.
Притом даже меня удивило выражение собственного голоса, когда я произносила бессмертные строки:
О Боже, у меня недобрый глаз!
Ты показался мне отсюда, сверху,
Опущенным на гробовое дно
И, если верить глазу, страшно бледен[151].
А когда Ромео удалился, вымолвив последние слова прощания, моя реплика вылилась в крик, исполненный столь подлинной боли, что можно было поверить, будто моя душа воистину приготовилась навсегда проститься с бренной оболочкой.
Мне трудно передать, какую бурю восторгов вызвала эта сцена, описать, как неистово мне аплодировали, когда она подошла к концу. Что касается меня, то я так и осталась на балконе почти без чувств. Сэр Джон подошел ко мне и, заключив в объятия, скорее принес, нежели привел к своим друзьям.
Сэр Гарри также удостоился многих похвал, самым естественным образом переадресовав их мне.
Сэр Джон соединил в своей холодной влажной руке обе наши пылающие ладони и произнес:
– Если бы Ромео и Джульетта так любили друг друга, как вы, смерть при всей своей беспощадности не осмелилась бы их разлучить.
Я поглядела на него с удивлением и высвободила свою руку, он отпустил ее только после страстного пожатия.
Мы сели пить чай. Затем сэр Джон извлек часы и провозгласил:
– Господа, в полночь я буду вынужден вас покинуть: в Адмиралтействе состоится ночное заседание. Нам осталось провести вместе всего четверть часа.
Затем он отвел меня в сторонку и тихо произнес:
– Я с вами не прощаюсь, дорогая Эмма. Может быть, заседание закончится не слишком поздно, тогда я смогу вернуться и провести эту ночь с вами; при всем том не ждите меня, ложитесь и спите. У меня есть собственный ключ, так что вам нечего обо мне беспокоиться.
Не знаю почему, но эти слова заставили меня содрогнуться.
– Разве вы не можете как-нибудь отпроситься? – робко спросила я, еще не понимая, действительно ли мне хочется, чтобы он остался.
– Невозможно! – таков был его ответ.
После этого он возвратился к чайному столику, вокруг которого сгрудились его приятели, и громко о чем-то заговорил, прилагая весьма заметные усилия, чтобы под напускной веселостью скрыть какую-то тревогу.
Прошло около пятнадцати минут, и вот часы пробили полночь. Сэр Джон снова посмотрел на свой карманный хронометр – он показывал то же время.
Это был знак гостям, что настала пора откланяться. Они простились со мной; собрался уйти с ними и Гарри, но в его взгляде сквозило глубочайшее сожаление; затем сэр Джон приблизился ко мне, поцеловал меня в лоб и произнес две строки, которые в пьесе говорит Ромео:
Прощай. Спокойный сон к тебе приди
И сладкий мир разлей в твоей груди![152]
Моих сил хватило только на то, чтобы ответить ему улыбкой, почти такой же печальной, как и его собственная. Он бросил на меня последний взгляд, взял под руку сэра Гарри и вышел, пропустив вперед остальных гостей. Когда дверь за ними затворилась, я почувствовала себя почти такой же одинокой и испуганной, как Джульетта, пробудившаяся в склепе Капулетти. Я не могла не восхищаться, одновременно ужасаясь, с какой настойчивостью рок связывает различные эпизоды моей жизни странными узами, а моя воля не играет при этом никакой роли.
Действительно, я почти что забыла того безвестного лицедея, робкого и покорного Гарри, лишь на миг промелькнувшего в моей жизни, пройдя как тень мимо меня и оставив не больший след, чем призрак. И вот сэру Джону взбредает на ум продемонстрировать своим друзьям мои актерские дарования, я исполняю сцену безумия Офелии, меня просят повторить, я спрашиваю, не может ли кто-нибудь подавать мне реплики и сыграть вместе со мной ту или другую из двух любовных сцен «Ромео и Джульетты», никто не знает ни первой, ни второй наизусть, кто-то из друзей сэра Джона произносит имя сэра Гарри Фезерсона… Имя Гарри заставляет меня вздрогнуть. Лорд Фезерсон, полгода отсутствовавший, как раз два или три дня назад возвратился в столицу; адмирал Пейн поручает сэру Джорджу пригласить его, его приводят – и что же? Случай, рок пожелали сделать так, чтобы лорд Фезерсон и студент Гарри оказались одним и тем же человеком!
В чем мне упрекнуть себя? Ни в чем, кроме чувств, охвативших меня при виде его, при звуке его голоса, при его прикосновении; но разве от меня зависело ощущать эти чувства, не достаточно ли было уже того, что я умудрилась совладать с ними?
Что должна переменить в моей жизни эта случайная встреча? О, что касается этого, то я отнюдь не собиралась брать на себя ответственность за нее. Я все уже рассказала сэру Джону, по его возвращении я поведаю ему и о тех переживаниях, что овладели мной из-за прихода сэра Гарри; ему, и только ему, предстоит распорядиться моей будущностью: стоит ли удалить меня из Лондона или оставить в столице и, следовательно, позволить еще не раз видеться с сэром Гарри.
Я приняла это решение. Я не питала к сэру Джону подлинной любви, но относилась с великим уважением к свойствам натуры этого человека и была признательна ему за его щедрость. Обмануть его, чувствовала я, было бы грехом, который я никогда себе не прощу.
Приняв решение, я несколько успокоилась. Рука сэра Джона, как я была уверена, поведет меня с дружеской твердостью, и, не беспокоясь о себе самом, он изберет для меня тот путь, который причинит мне наименьшие страдания.
И вот я вышла из оранжереи и направилась в спальню, там я разделась и улеглась в постель, а поскольку он предупредил меня, что если сможет, то обязательно возвратится, я принялась его ждать, будучи уверена, что он сдержит слово. Вот только, полагая, что ночь недостаточно темна, чтобы облегчить мне мое будущее признание, я потушила все свечи и даже задула огонек ночника.
Прошло довольно много времени, моя камеристка и прочие слуги удалились к себе, я услышала, как пробило час, затем два, а нетерпение ожидания и мысли, роившиеся в моей разгоряченной голове, не давали мне уснуть.
![Александр Дюма - Воспоминания фаворитки [Исповедь фаворитки]](/uploads/posts/books/19343/19343.jpg)