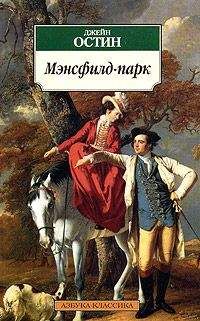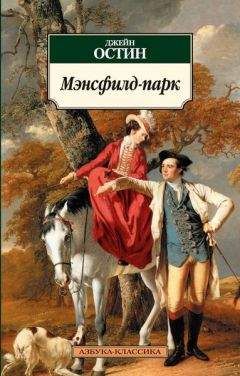Энн Бронте - Агнес Грей
И домой мои ученицы теперь шли без меня, заявив, что их маменька считает неприличным, если трое возвращаются домой пешком, а в карете едет лишь двое. Но в хорошую погоду гулять так приятно, что честь сопровождать их родителей они предоставляют мне.
— К тому же, — добавили они, — вам трудно за нами успевать. Вы вечно отстаете!
Я знала, что все это надуманные предлоги, но не возражала и не опровергала их аргументы, прекрасно понимая истинную их подоплеку.
А днем церковь за эти достопамятные шесть недель я не посетила ни разу. Если мне слегка нездоровилось, они сострадательно принуждали меня остаться дома или же говорили, что второй раз в церковь не поедут, а в последнюю минуту делали вид, будто передумали, и уезжали туда, не предупредив меня и с такими предосторожностями, что мне ни разу не довелось вовремя узнать о перемене их планов.
Однажды, вернувшись после второго такого посещения церкви, они принялись оживленно пересказывать мне свой разговор с мистером Уэстоном, который проводил их почти до входа в парк.
— И он спросил, мисс Грей, не больны ли вы, — сказала Матильда. — А мы объяснили, что вы совсем здоровы, но просто не захотели ехать в церковь с нами. Наверное, он решит, что вы дурно себя ведете.
Были приняты все меры, чтобы предотвратить случайные встречи и в будни: мисс Мэррей заботливо находила мне занятия, не оставлявшие мне ни единой свободной минуты, и я больше не могла навещать бедную Нэнси Браун или кого-нибудь другого. То необходимо было докончить рисунок, то переписать ноты, то еще что-нибудь, и хорошо, если я успевала немножко погулять в парке. Они же прекрасно проводили время без меня.
Как-то утром им удалось подстеречь мистера Уэстона, и, вернувшись, они с ликованием начали пересказывать свой с ним разговор.
— Он опять про вас спрашивал, — сказала Матильда вопреки безмолвному, но выразительному требованию сестры, чтобы она придержала язык. — Удивился, почему вы никогда нас не сопровождаете, и посетовал, что у вас такое слабое здоровье, раз оно вынуждает вас оставаться дома.
— Он ничего подобного не говорил, Матильда! Какой вздор ты болтаешь.
— Нет уж, Розали, это ты врешь. Он так и сказал, а ты сказала… Ой, Розали… Черт побери!.. Перестань щипаться! А Розали, мисс Грей, сказала ему, что вы здоровы, но все время сидите, зарывшись в книги, и никаких других удовольствий не признаете!
«Какого же мнения должен он быть обо мне!» — подумала я, но вслух спросила:
— А Нэнси обо мне справляется?
— Да. А мы ей отвечаем, что вы так любите читать и рисовать, что ничем другим заниматься не хотите.
— Но ведь это не совсем так. Если бы вы ей сказали, что я все время занята и потому не могу ее навестить, это было бы ближе к истине.
— Ничего подобного! — вдруг вспылила мисс Мэррей. — У вас теперь очень много свободного времени, ведь вы почти уроков не даете.
Вступать в спор с такими избалованными, взбалмошными девицами не имело никакого смысла, и я промолчала. Я уже давно привыкла отмалчиваться, когда говорились вещи мне глубоко неприятные. И еще я научилась сохранять на лице спокойную улыбку, когда сердце мое переполняла горечь. Лишь те, кто испытал подобное, способны вообразить, что я чувствовала, пока с напускным веселым равнодушием слушала их рассказы о встречах и разговорах с мистером Уэстоном, которые они описывали мне словно бы с особым удовольствием, сообщая подробности, которые могли быть только преувеличениями и искажениями правды, если не просто выдумками — ведь я знала его характер. И все представлялось в виде, унизительном для него и лестном для них — особенно для мисс Мэррей, и я сгорала от желания возразить или хотя бы посмотреть на них с сомнением, но не осмеливалась, опасаясь выдать свой жгучий интерес. А многое, как мне казалось, как я боялась, было правдой, но и тут приходилось под личиной безразличия скрывать тревогу за него и возмущение их поведением. И еще — загадочные намеки, которые мне невыносимо хотелось разгадать!
Но любой вопрос мог меня выдать. Так тянулось это тоскливое время. Я же не могла успокоить себя и таким доводом: «Ничего, скоро ее свадьба, и можно будет надеяться…»
Ведь потом почти сразу я уеду домой, а когда вернусь, наверное уже не найду тут мистера Уэстона — по слухам, он и мистер Хэтфилд плохо ладили (разумеется, по вине мистера Хэтфилда!), ему пришлось подыскать себе другое место.
Нет! Конечно, я уповалана Бога, но единственным другим моим утешением была мысль, что я — пусть он этого и не знает — более достойна его любви, чем Розали Мэррей, как ни прекрасна она, как ни очаровательна. Ведь я способна оценить высокие достоинства его души, а она нет; я бы свою жизнь посвятила тому, чтобы дать ему счастье, а она погубит его счастье навсегда ради минутного удовлетворения глупого тщеславия. «Ах, если бы только он мог понять! — с тоской восклицала я. — Но нет, я не позволила бы ему заглянуть мне в сердце… И все же, если бы только он увидел ее пустоту, ее недостойное бессердечное легкомыслие, он был бы спасен, а я… я бы почла себя почти счастливой, даже если никогда больше его не увидела бы!»
Боюсь, я успела порядком наскучить читателю глупостями и слабостью, в которых столь откровенно ему призналась. Но тогда я ничем их не выдала — и сумела бы скрыть, даже если бы там со мной были мама и Мэри. Я оказалась ловкой и закоренелой притворщицей, пусть лишь в этом. Мои молитвы, слезы, чаяния, страхи и сетования оставались ведомы лишь мне самой и Небесам.
Когда нас томят печаль и тревога или угнетают чувства, которые мы вынуждены скрывать, не ища и не находя ничьего сочувствия, и в то же время не в силах совсем подавить, мы нередко ищем утешения в поэзии — и обретаем его то ли в чужих излияниях, которые словно выражают наши собственные муки, то ли в наших собственных попытках дать выход этим мыслям и чувствам в стихах, быть может, и менее музыкальных, но зато более подходящих к случаю, более созвучных нашему душевному состоянию, а потому обладающих большей властью успокаивать или облегчать измученное, переполненное болью сердце. Еще в Уэлвуд-Хаусе, да и тут, когда меня особенно мучила тоска по дому, я раза два обращалась к этому тайному целительному источнику. Теперь же я вновь припала к нему, ибо еще больше нуждалась в утолении страданий. Я до сих пор сохраняю эти свидетельства прежних мук, которые, словно вехи, отмечают наиболее знаменательные события на пути по земной юдоли. Следы наши стерлись, облик местности переменился, но еще стоит веха, напоминая мне все обстоятельства, при которых она там появилась. Быть может, читателю будет любопытно взглянуть на образчик этих излияний, и я предложу ему один короткий пример. Хотя строки эти могут показаться холодными и вялыми, породило их жгучее горе.
Надежду отняли они,
Что мне звездой была,
И голос слышать не дают,
Которым я жила.
И увидать твое лицо
Не позволяют вновь,
Улыбки отняли твои,
Украли и любовь.
Но пусть! Одно им не отнять
Сокровище мое —
То сердце, что тобой полно
И верует в твое!
Да, этого они не могли у меня отнять — я могла думать о нем дни и ночи, я могла чувствовать, что он достоин того, чтобы о нем думать. Никто не знал его, как я, никто не мог оценить его, как я, никто не мог любить его, как я… любила бы, если бы у меня было на то право. В том-то и заключалось все зло. С какой стати думала я о том, кто не думал обо мне? Не глупо ли это? Не дурно ли? Но если мысли о нем дарят мне такое жгучее блаженство, а я ни с кем не делюсь, никому им не докучаю — то где тут вред? Вот какие вопросы я себе задавала. И подобные рассуждения мешали мне сбросить свои оковы.
Но хотя эти мысли несли с собой блаженство, оно было томительным и тревожным, слишком близким к муке и приносило мне больше вреда, чем я догадывалась. Благоразумие и опытность не допустили бы такой слабости. Но как тоскливо было отрывать взгляд от созерцания этого светоча и обращать его на унылую серую пустыню вокруг, на безрадостную, скорбную, одинокую тропу перед собой. Предаваться отчаянию и тоске дурно. Мне следовало искать опору в Боге, сделать Его волю светом и смыслом моей жизни, но вера была слаба, а страсть — слишком сильна.
В это тягостное время на меня обрушились еще две беды. Первую можно считать пустяком, хотя она стоила мне немало слез: Снэп, мой четвероногий ясноглазый ласковый дружок, был отнят у меня и передан во власть деревенского крысолова, известного своим жестоким обращением с попавшими к нему в рабство собаками. Вторая беда была куда серьезней. В письмах из дома все чаще упоминалось, что здоровье папы ухудшается. Нет, особого страха в них не выражалось, но я стала теперь боязливой, и меня преследовал страх перед надвигающимся непоправимым несчастьем. Мне чудились черные тучи, собирающиеся над родными холмами, и приближающийся рокот бури, которая вот-вот разразится и осиротит наш очаг.